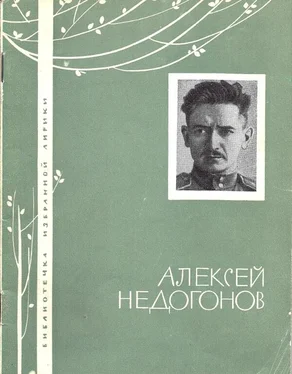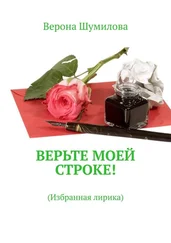— Обужа ведь, братец, твоя-то
избилась.
Смени, старина…
— Не буду, солдаты-ребята,
в России ковалась она…
И только в Белграде ботинки
снимает пехоты ходок:
короткое время починки —
по клену стучит молоток.
(Кленовые гвозди полезней, —
испытаны морем дождей;
кленовые гвозди железней
граненых германских гвоздей!)
Вновь ладит ефрейтор обмотки,
трофейную «козью» сосет,
читает московские сводки
и — вдоль Балатона —
вперед!
На Вену пути пробивая,
по Марсу проходят стрелки:
идет
на таран
полковая,
мелькают
в траве
башмаки!
…С распахнутым воротом —
жарко! —
пыльца в седине на висках —
аллеей Шенбруннского парка
ефрейтор идет в башмаках.
Встает изваянием Штраус —
волшебные звуки летят,
железное мужество пауз —
пилотку снимает солдат.
Ах, звуки!
Ни тени, ни веса!
Он бредит в лучах голосов
и «Сказкою Венского леса»,
и ласкою Брянских лесов,
и чем-то таким васильковым,
которому
тысячи лет,
которому в веке суровом
ни смерти,
ни имени нет,
в котором стоят,
как живые,
свидетели наших веков,
полотна военной России
и пара его башмаков!
1945 г.
Они такой не знали перемены,
не ведали моторной высоты;
они со мной летели из-под Вены —
воздушные австрийские цветы.
Могло казаться, что они — из дыма,
что облачко вот этих лепестков
рукою ветра сорвано незримо
в густом саду альпийских облаков.
…Рассвет.
Карпаты.
Ветер глухо воет.
Я вниз смотрю. И в заревóм огне
сквозь трепетный оконный целлулоид
Россия пробивается ко мне.
Сквозной тысячеверстной полевою
лежит она в скрещении дорог…
Перед полуднем над моей Москвою
кружился иностранный лепесток.
Он был в туманной дымке, как баллада.
Его, без напряженья, с высоты
магнитом Ботанического сада
притягивали русские цветы.
…В австрийской вазе с влагою Дуная,
как память о поверженной земле,
стоит, о Венском лесе вспоминая,
букет Победы на моем столе.
Его степные ветры опалили,
на нем
чужих, сухих лучей следы;
сюит и ждет
букет австрийских лилий
прикосновенья утренней звезды.
1945 г.
Звезд тишина неизменная.
Сумерек зыбкая просинь.
Первая послевоенная
милая русская осень.
Тихо пришла она — вкрадчивая,
судя по звукам — тугая,
песни и дни укорачивая,
свет в куренях зажигая.
В пору такую караичи
к лунным лучам приторочены,
в пору такую, играючи,
пробуют усики заячьи
танковый след вдоль обочины…
Все мне и любо и дорого:
и безразличьем простора
суженное до шороха
сердцебиенье мотора;
и журавлиная ижица,
что под луной воровато
древней дорогою движется
к знойному устью Евфрата;
и неземная, отпетая,
вешняя юность акаций…
Осень относится к этому
с невозмутимой прохладцей.
Кочет горластый неистово
прясла и птичник окликал.
Осень сады перелистывает
после учебных каникул.
Под Ростовом
Осень 1945 г.
Матери моей Федосье Дмитриевне
Как подули железные ветры Берлина,
как вскипели над Русью военные грозы!
Провожала московская женщина сына…
Материнские слезы,
материнские слезы!
Сорок первый — кровавое знойное лето.
Сорок третий — атаки в снега и морозы.
Письмецо долгожданное из лазарета…
Материнские слезы,
материнские слезы!..
Сорок пятый — за Вислу идет расставанье,
землю прусскую русские рвут бомбовозы.
А в России не гаснет огонек ожиданья —
материнские слезы,
материнские слезы!
Пятый снег закружился, завьюжил дорогу
над костями врага у можайской березы.
Сын седой возвратился к родному порогу…
Материнские слезы,
материнские слезы!..
1945 г.
«Я взвешивался в детстве…»
Я взвешивался в детстве
на весах,
дивясь, как цилиндрические гири
скользили на размеченном шарнире.
И все.
Но я не знал о чудесах,
не знал, что мне
за мелкую монету
они тогда —
до точности почти —
смогли в своих делениях найти
мой вес —
мое давленье на планету.
Читать дальше