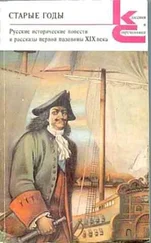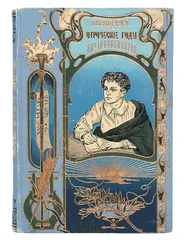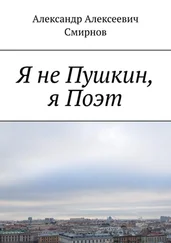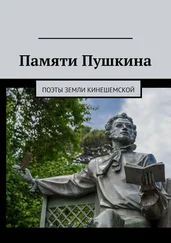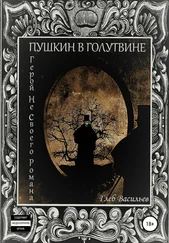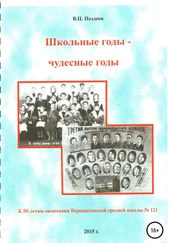Сия песня начинается так: «Тщетно я скрываю сердца скорби люты». Она была напечатана сперва между песнями г. Сумарокова.
Будучи в сухопутном кадетском корпусе учителем фортификации, он с таким сильным и приятным красноречием изъяснял нам сию важную часть военного искусства, что не только научал, но пленял слушателей.
«Но можно ли каким спасительным законом
Принудить Мевия мириться с Аполлоном,
Не ставить на подряд за деньги гнусных од
И рылом не мутить Кастальских чистых вод»,
— написал о нем г. Капнист в Сатире.
Из переводов его — «Заблудший сын», Вольтерова комедия, отданная в 1769 году на театр, не напечатана.
В сей поэме, возбуждаясь любовию к отечеству, присовокупил он многие славные действа творца российского военного искусства, Петра Великого.
Да не примут за мщение читатели сих строк, уважением к ним извлеченных. Мне прискорбно было бы не оправдаться никогда за обезображенный издателем перевод Новой Элоизы, выданный под моим именем. В нем сделано издателем против моего запрещения и уверения его в своеручных ко мне письмах ничего не переменять в списках моих больше тысячи перемен или грубых погрешностей даже против авторского смысла, не только против чистоты слога. Неужели за то, что я бескорыстно подарил ему право печатать сии книги в его пользу, а он, не доставя мне и выговоренных двадцати экземпляров, принудил меня купить на ярманке мою собственную книгу; неужели за нарушение его обязательств, за издание подложных книг под моим именем не имею я еще права и сказать о том, для оправдания себя перед читателями, скрывая и щадя его имя, тогда как он не щадил нимало моего, издавая под оным испорченные им мои переводы. Доказательство неоспоримое, что я гнушался мстить, когда, нигде не жалуясь, позволил ему пользоваться плодом его неверности и продавать обезображенные мои труды. Я не упущу однако ж выдать сих мнимых поправок или грубых погрешностей, сделанных издателем против моих рукописей в сем переводе, как для оправдания моего перед читателями и для угождения им, так и для того, что в примечаниях на оные погрешности найдется, может быть, нечто к пользе переводов, слога и вкуса.
В поэме Чесмесский бой:
«О ты, питомец муз, на что тебе Беллона,
Когда лежал твой путь ко храму Аполлона?
На что война тебе, на что оружий гром?
Воюй ты не мечом, но чистым муз пером;
Тебя родитель твой и други ожидают,
А музы, над тобой летающи, рыдают;
Но рок положен твой; нельзя его прейти.
Прости, дражайший друг, навеки ты прости!»
И ниже:
«Когда же скрылся ты навек в морских волнах,
Так гроб твой у твоих друзей теперь в сердцах».
В письме г. Майкова.
«Художеств и наук Козловский был любитель,
А честь была ему во всем путеводитель.
Не шествуя ль за ней, он жизнь свою скончал
И храброй смертию дела свои венчал?»
И ниже:
«Когда о храбрых кто делах вещати станет,
Козловский первый к нам во ум тогда предстанет;
Хвалу ли будет кто нелестным плесть друзьям,
Он должен и тогда представиться глазам;
Иль с нами разделять кто будет время скучно,
Он паки в памяти пребудет неотлучно.
Всечасно тень его встречать наш будет взор,
Наполнен будет им всегда наш разговор.
Итак, хоть жизнь его судьбина прекратила,
А тело алчная пучина поглотила,
Он именем своим пребудет между нас;
Мы станем вспоминать его на всякий час».
Он перевел Гельвеция, переводил много и в стихах; но ничто не напечатано.
В одном письме к Вольтеру, 1776 года из Царского Села, говорит она о переводе своих учреждений для Губерний: «Всего труднее переводить на французский язык с русского: язык русский так богат, выразителен и способен к таким оборотам и составлениям слов, что его можно употреблять как угодно; а ваш язык так учен и так беден, что вам только одним возможно сделать из него такое употребление, какое вы делали».
В правилах для Эрмитажа.
Смотри «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», особливо от стр. 175 по 241.
Критика на сочинения Евстафья Станевича.
Новый опыт Исторического словаря о российских писателях, издаваемый в московском журнале под названием «Друг просвещения».
Читать дальше