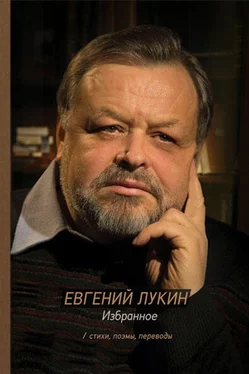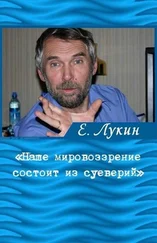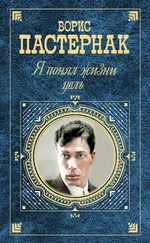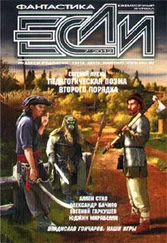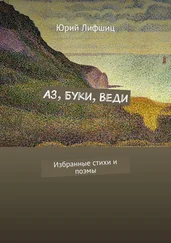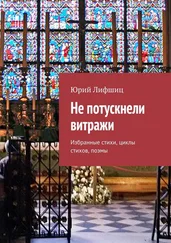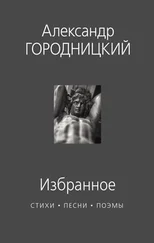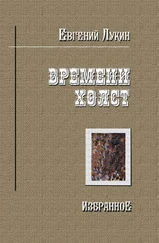Эту особенность поэтического перевода некогда подметил поэт Василий Жуковский – младший современник Капниста. «Переводчик в поэзии есть соперник», – утверждал он, имея в виду не мифотворческую конкуренцию с автором подлинника, но чисто творческую состязательность – соответствующую возможность создать оригинальный художественный текст, в той или иной мере верный духу подлинника. Сам Жуковский рассматривал эту возможность лишь в созидательном ключе, порицая дионисийское стремление субъекта слиться с объектом подражания в безумном экстазе.
В таких условиях возникала проблема авторской идентичности. Действительно, когда процесс идентификации и следования высокому образцу завершался, требовалось определить, кому принадлежит созданный текст – автору подлинника или тому, кто его пересказал, «перевыразил», как говорил Александр
Пушкин. После длительного отождествления «я» и «другого» было необходимо осуществить их болезненное расщепление, а точнее – распределение ролей на первую и вторую. Поскольку, по мысли французского философа Алена Бадью, «другой», которому «я» способен подражать и уподобляться, может быть только положительным, только хорошим, то «я» при окончательном раскладе должен был обладать перед ним превосходной степенью.
Выход из щепетильной ситуации оказывался вполне презентабельным: переводчик ставил над завершенным трудом свое имя, а имя автора подлинника указывал в подзаголовке – «из Пиндемонти», «подражание Парни», «по мотивам песни Гомера». Впрочем, в золотой век русской литературы здесь не устанавливалось каких-либо жестких правил. Многие баллады Жуковского, как и элегии Батюшкова, на деле являлись переводными, но таковыми не считались, поскольку поэты осуществляли определенную творческую переработку текстов. Дух соперничества позволял перелицовывать чужие произведения на свой лад. Такое сотворчество давало неожиданные, порой удивительные результаты. Однако превосходная степень по отношению к «другому» оставалась непоколебимой. Когда Константин Батюшков перевел элегию Шарля Мильвуа «Бой Гомера и Гесиода», то в примечании честно указал на ее принадлежность французскому поэту. Александр Пушкин, ознакомившись с текстом, высказал вскользь сожаление: «Вся элегия – превосходна. Жаль, что перевод». Батюшков, опечаленный снисходительной репликой, решил в дальнейшем публиковать элегию без всякого примечания под символическим заглавием «Гомер и Гесиод, соперники».
Между тем проблема авторской идентичности обретала иную ипостась, когда сталкивалась с величием «другого» – таким величием, которое не могло быть преодолено никакой превосходной степенью. Прежде всего речь шла об авторах шедевров, по своей метафизической силе близких к Абсолюту. К таковым относились великие эпические полотна минувших веков, перевод которых на родной язык уже сам по себе составлял бы честь и славу любому мастеру. Несоразмерность «я» и «другого» определялась здесь недостижимой высотой последнего, трансцендентного по отношению к «я». Эта разность была настолько очевидна, что никто не решался переступить через невидимую грань. В своей поэме «Рождение Гомера» Николай Гнедич отважился именовать себя лишь «робким певцом, вторившим песне Гомера». И понятно, что славное имя древнегреческого поэта по праву украсило фундаментальный труд его русского пересказчика.
Вышесказанное означает, что Василий Капнист не был свободен в выборе того или иного шедевра для последующего толкования. Тем и универсальна сакральная система координат, что она устанавливает четкую иерархию вечных ценностей. Выбор среди них обусловлен вышним началом, а не чьим-либо субъективным пристрастием. Известно, как упрекал Александр Пушкин своего незабвенного учителя Василия Жуковского, что тот пересказывает немецкие баллады вместо того, чтобы заняться настоящим делом – переложениями эпических песен Тассо или Гомера. В конце концов Жуковский откликнулся на сетования своего ученика. Его перевод гомеровской «Одиссеи» и поныне считается классическим. Очевидно: достигнутый результат стал возможен благодаря движению по аполлоновскому пути, сторонником коего являлся этот замечательный русский поэт. Другой путь неизбежно увлек бы его в сумрачную бездну сознания.
Санкт-Петербург, 2016
У самого синего моря,
У самого синего неба
Есть остров соснового звона
И тихих ракитовых слов.
Читать дальше