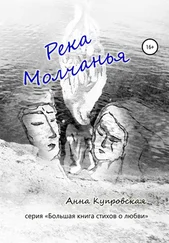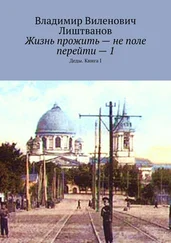– он поправлял зубной протез,
слетевший от ярости.
– Да ладно, пап, проскочим,
– отвечал ему я и оставлял
на табуретке сумку с продуктами,
купленными по талонам
для инвалидов войны.
– Я захлопну дверь, не вставай,
– говорил я, уходя.
– Да уж, доверяй таким,
– и ковылял со своей палкой
приобнять меня в дверях.
Моя бабушка не пугала
меня своим идишем.
Моя бабушка не впихивала
в меня мерзкую кашу.
Моя бабушка не шептала
родителям, что я курю.
Она не уцелела
Знаю я, знаю, сынок.
В этом доме желтеют фотографии
«когда-ты-был-маленьким».
Здесь всегда найдется
«что-нибудь-вкусненькое»
И твои лишние вещи
«могут-иногда-понадобиться».
Ты вылупился из этой скорлупы,
застарела пыль в ее трещинах,
и пересохла плацента.
И лучше отзвякать своим ключом,
когда родителей нет дома,
чтобы без ворчливых назиданий.
Не морочь мне голову,
что «ты-спешил-а-потом-забыл».
Просто верни мне зонт.
На завтра обещают дожди.
Его сын сразу после похорон
улетел обратно к себе.
Богадельне он ответил по мылу:
– Можете выбросить все это.
Даже не спросил, что осталось:
сгнивший крой на яловые сапоги,
пиджаки с дырками для орденов
распавшейся страны,
нестоптанные выходные туфли,
набор инструментов в шкафу.
Ну и откровенный хлам:
белье, одежда, посуда,
авторучки, письма,
поблекшие фотографии,
полдюжины книг, испорченных
автографами и пометками,
на столе неразборчивая рукопись
воспоминаний,
страниц двести.
Последняя правка
сделана накануне.
Моя тетя
последние двадцать лет
не читает книг.
Боится умереть,
так и не узнав,
чем все это кончилось.
1981 г.
Собираясь в кино,
моя прелесть,
все проверь еще раз,
не забудь
взять помаду с расческой,
деньги, ключ от квартиры,
свой платочек,
чтоб вволю поплакать
над доподлинной
дамой с камелиями
и, конечно,
свою неизменную
пару свежих морковок,
пару первых июньских морковок:
погрызть за здоровье
свое и нашей
будущей малышки.
Непогода наша – хамсин в июле,
залипает плевра на клохтанье фибр.
Но, покуда Арава не распишет пулю,
ты подсел на рифму, упустив верлибр.
И поманит рвануть на дачу к сестрам,
покопаться в сухарнице старожилом,
по Москве за поджаристой коркой черствой,
да хоть в Петербург за рыбьим жиром.
Но очнешься на ощупь в набухшей ночи,
где стрекочет, где учит не обознаться,
где звездою трассирующей пророчит
то ли их калаш, то ли М-16.
«Но если спросят: „Зуся, почему ты не был Зусей?“, – на это ответа у меня не будет»
Рабби Зуся из Аниполи
Почему здесь? Неужто
от Рейкьявика, кудль его,
и до Окленда, «да и так сойдет»,
не нашлось прохладней места,
просторней места?
Кого ищешь ты
в старом Яффо
среди гаражей
и антикварных лавок,
среди пафосных офисов
по ремонту
выброшенных стиралок?
Неужели мои
тирские полушекели
находят в Америке?
Воистину велики финикийцы,
корабелы и мореходы.
Но зачем ты тащил
из Цинциннати
свой любимый
кадиллак Эльдорадо?
Я нашел бы тебе,
ну да,
здесь не хуже
со всеми лошадями и поршнями.
Когда надоест мне твой квест,
надоест чеканить подлинные
свои финикийские финансы,
я выйду, Шмуэль, навстречу твоей
разболтанной задымленной коробке.
– Кто тут ищет Джонни? – спрошу тебя.
– Сегодня Джонни – это я.
И не спрашивай,
почему, Зуся,
ты не был Джонни?
Что за кардио шумы в моторе, старче?
Что за античный гевалт ты поднял,
Мелк, в нашем Карте?
Сегодня Джонни – это я,
черный эритреец.
Сегодня я помазан быть Джонни,
о котором сказали тебе:
он лучший механик,
он лучший гаражник в Яффо.
Отчет минфина
о доходах населения,
графики с ростом цен,
предупреждения
о загрязнении моря
или опасных продуктах.
Фото плачущих жен,
избитых мужьями,
разбитый в драке прилавок.
И вдруг перевернет
широкая улыбка,
или спокойное благодушие
молодых счастливых лиц,
в колонках о гибели
на службе или в терактах.
Читать дальше