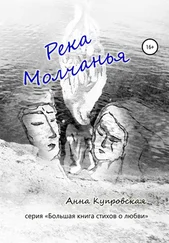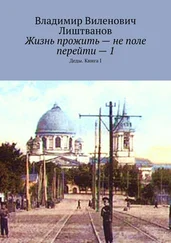«Перед прыжком с дерева на балкон…»
Перед прыжком с дерева на балкон
я наконец услышал, что сказал отец:
– Рядом ограбят квартиру
и кто-то укажет на тебя:
– Этот влезал на балкон.
Кому будет дело, что ты потерял ключи?
Откуда папа знал об этом?
Цвела ли черемуха его свиданий
той дождливой ночью,
по которой раскатился воровской свист?
Иду домой по своей улице
под пристальными взглядами
из темной глубины окон.
Все-таки Гита сунула его в багаж
и привезла в Израиль.
На кой ляд он был ей здесь?
Было не до него:
новая страна, переезды,
старая мебель,
полузнакомые лица,
полувоенная взвесь новостей.
Ткань слежалась, потеряла вид.
После ее похорон отрез выбросили.
Только смерть разлучила их.
Тогда и припомнили,
что Гита все время
хотела подарить
этот отрез.
Последние раза два
внучке, «гласность – перестройка – ускорение»,
«я так хочу быть с тобой»,
секретарше в кооперативе.
А до этого невестке,
«экономика должна быть экономной»,
«tombe la neige»*,
аспирантке без второго ребенка.
Но сначала дочери Асе, в оттепель,
«на новые земли едемте с нами!»,
«я дежурный по апрелю»,
на поступление в столичный пед.
Подарить она хотела
в особый момент
для такой роскоши.
Но так и не подарила,
не случилось.
И как передалась ей
мамина вера, что вот-вот
и такое снова будут носить.
Январские окна были обметаны снегом,
где-то у соседей
«стаканчики граненые упали со стола».
– Это тебе подарок
на рождение Асечки,
отрез черного панбархата.
Вернешься в Краснодар,
похудеешь, спортсменка моя,
и сошьешь у хорошего портного.
– Спасибо, какой красивый.
Можно, мам, я оставлю его у вас,
истреплется ведь по гарнизонам?
Не хотела расстраивать маму,
промолчала, что на дворе уже 41-й,
«широка страна моя родная,
много в ней лесов, полей и рек»
– Ну, какой панбархат, мам?
А черный панбархат
все играл у нее на руках
все манил переливами,
соблазнял мягким узором,
обещал прильнуть к телу.
– Как ты захочешь, Гиточка.
Такой длинный, на платье в пол.
Никто так и не узнал,
как он, оставленный в Москве,
оберегал тебя
на оккупированном
Северном Кавказе.
Это он касался твоих ног
там, в подвале,
где ты мочилась, стоя,
все полтора года.
Молчи, ни слова об Асечке.
«Мне на полу стаканчиков
Разбитых не собрать,
И некому тоски своей
И горя рассказать.»
_______________________
*tombe la neige —падает снег, франц., из песни Сальваторе Адамо
Мама печет пироги,
Пахнет ванилью и сдобой.
И, примостившись удобней,
Прячу свои синяки.
Возле жестяной духовки
Мама гусиным крылом
Мажет листы и сноровка
Кажется мне колдовством.
Все отчужденно, как будто
Я ни при чем здесь ни капли.
Летом безмолвьем обуто,
Кухня – лишь сцена в спектакле.
В следущем действии топот
Детских сандалий по полу
И по скрипучим ступеням.
Соседский сдержанный шепот:
– Шуму… об эту-то пору, —
И лопухи по коленям.
И доносящийся окрик,
Чуть-чуть истошный, надсадный,
Рассчитан на непослушанье.
Порожек вымытый мокрый,
Ни суеты, ни досады,
Ни цепей обладанья.
Вчера моя мама
ставила мне в пример
своего соседа
(тесть устроил ему степень),
который никогда не ругается
со своей женой.
Сегодня моя мама
ставит мне в пример
бывшего мужа моей двоюродной сестры
(отсудил у нее квартиру в Москве),
который никогда не ходит
по дому босым.
Как обычно, моя мама
ставит мне кого-то в пример
(очередной откровенный мальчик),
а я медленно привыкаю к мысли,
что придется тащиться
домой к жене
через весь город
в мокром ботинке.
Знал я одного старого большевика.
Он понятия не имел о
«Столовой старых большевиков».
– Гегемоны совсем оборзели,
работают только по субботам
за двойную оплату,
– говорил я ему неизвестно зачем.
– Не открывай пасть на рабочий класс!
– срывался он в ответ.
– В деревне народа совсем не осталось,
кто не сбежал, спился или помер,
– продолжал я.
– Опять «голосов» наслушался?
– Нет, были вчера на картошке.
– Не болтай, дурак,
и за меньшее расстреливали!
Читать дальше