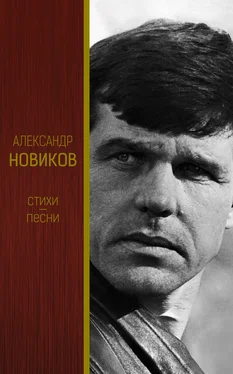1995 г.
Она принеслась. И была для любви без конца мне —
Как белая птица, как облако, павшее ниц.
И я называл её в смех длинноногою цаплей,
Как самой красивой из всех раскрасивленных птиц.
С ней было легко, и в губах – удивительно сладко.
В гостиничной тьме был шальной упоительный дом.
И все, что на свете доселе считалось повадкой,
Мы с ней превращали в манеры в постели потом.
Она была – крик. Я в ответ был и кнут и рычанье.
И билась она, разрывая мне крыльями грудь,
Чтоб в этой груди не оставить ни капли печали.
И это был к сердцу единственно правильный путь.
2014 г.
Когда от ветра станут тусклыми
Прически кленов и рябин,
Моргает день глазами грустными
В немом предчувствии седин.
Таранит слух природы жалоба,
И дрожь отчаявшись унять,
У неба просит только малого:
На иней золото сменять.
Листва заблудшая слоняется
И превращается в дымы,
Что в три погибели склоняются
Перед могуществом зимы.
Затишья хрупкие, непрочные,
Ждут ливень, майскую грозу.
Но давят трубы водосточные
Скупую мелкую слезу.
В глазах под бойкими ресницами
Ещё июльское тепло.
Но миг – и эти искры птицами
На юг далекий повлекло.
Но миг – и все вокруг изменится,
Как на пол рухнувший хрусталь —
Улыбка-блик, событий пленница,
Сверкнув, расколется в печаль.
И дни вчерашние колосьями
Пойдут рассудку в жернова.
И лето, вдруг проснувшись осенью,
Сгорит до углей, как дрова.
1984 г.
Оставляю в бушующем лете
Я тебя навсегда. Навсегда.
Как в сгоревшей дотла сигарете,
От огня не оставив следа.
Но в казенных гостиничных шторах
Уцепилась и прячется лень.
В них расплачется осень так скоро
На стекле. На стекле.
Как усталыми звездами шают
Отслужившие службу слова,
Их, конечно, сотрет и смешает,
Если выудит, злая молва.
Отзвенит и ударится оземь
Шепелявое слово «прощай»,
И расплачется желтая осень
На груди у плаща.
Оставляю в бушующем лете
Я тебя навсегда. Навсегда.
Как в сгоревшей дотла сигарете,
От огня не оставив следа.
И всезнающий ветер хваленый
Не собьется к зиме на пути,
И любовь, как горящие клены,
На душе облетит.
А в глазах, как в море синем,
Солнце на плаву.
Бьется на плаву и слепит.
Листья календарные пустые рву
Под несносный городской лепет.
1999 г.
Все было – правда. Но давно.
Хоть память все перевирает.
Я был – открытое окно,
В котором музыка играет.
Я надрывался без труда,
Я замолкал, что было силы,
Я хлопал ставнями, когда
Она под ними проходила.
И было грустно и светло.
И день стрелял в нее закатом.
Она царапала стекло
И уплывала южным скатом.
Я зажигал вдогонку свет,
Я вслед тянулся хваткой шторой.
Играла музыка ей вслед,
Нельзя влюбиться без которой.
Хрустело – вдребезги стекло,
Летели с ветром рамы – в клочья,
Но ей молчалось мне назло,
А мне, назло, кричалось ночью.
Чтоб ни украдкой, ни бегом
Здесь не ходить, коль звуки смолкли.
Но ей плясалось босиком,
И были музыкой осколки.
Все было – правда. Все – как есть.
Листвой засыпало стекляшки.
Перед окном другая здесь
Пускает с плеч вьюны-кудряшки.
Не страшно – стекла покрошил.
Не страшно – в щепки биты рамы.
А страшно – вырвал из души
Осколки музыки. Той самой.
2011 г.
Парикмахер модный очень —
С ним вся звездная Москва.
Клюв у ножниц так заточен —
Чирк! – и спрыгнет голова.
Он закрутит, он забреет,
Он закрасит завитки.
Бабы в кресле розовеют,
Голубеют мужики.
Парикмахер – он полдела,
Вслед за ним идет портной.
Он перед мужского тела
Тонко чувствует спиной.
Он пришьет к штанинам рюшки
Да и вежливо – взашей,
Ведь он – Елдашкин, он – Вафлюшкин…
(Не без Зайцевых ушей).
Вслед за этой чудной парой
Выступает режиссер —
Он чувак закалки старой,
Он читал про трех сестер.
И про вешалку в театре,
И про маму-Колыму,
Где "дон Педро" "дона Падре"
Не уступит никому.
Читать дальше