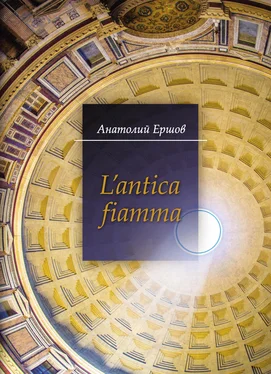На высоте души открытым быть не больно.
Как жаль, что в юности я этого не знал.
Через полсотни лет прости меня. Невольно
Я нелюдимостью обоих наказал.
Два чёрных солнца в голубых белках
У девочки в конце восьмого года
Пульсируют – потворствует природа!
И сердце не было ещё в бегах.
Ещё возлюбленные девочки спешат
Привить себе иные увлеченья,
Они бегут от всякого ученья,
И вздорные девчонки так смешат!
Но скоро, скоро нежность, смуглота,
Изящность тонких пальцев, рук и шеи,
И плавность речи, взгляда и движений
Отнимут речь. Тогда слюну глотать!
Дюймовочка, подольше не взрослей.
Страдания да разминутся с ней.
Время варваров длится. Подождём,
С тёмным солнцем разума, под дождём
Неиссякаемой любви, под снегом
Беспамятства, остаться человеком,
Доколе хватит сил.
Chaire [4] Chaire ( франц .) радуйся
, Диоген. Ты не гасил
Фонарь-синема-ноутбук.
Значит, плохи наши дела, мой друг.
Время варваров навсегда,
Если будет хлеб и вода?
И личное дело быть человеком,
Быть личностью, а не банковским чеком.
С вождём? С республикой? Гиль! Подождём
Возрождения-2 с любви дождём,
С золотым на ветру плащом.
Она не всмотрится, её мелькнувший взгляд
Не остановится: ты ей не интересен.
Те, что галдят в углу и старость злят,
Её ровесники, воспитанники песен
Англоязычных, эти-то просты,
Понятны ей, по Маугли, единокровны.
В понятиях любви и красоты
Так примитивны, площе и нескромны.
Все поколенья видят лишь себя,
Поверхностно, а вдумчиво не часто.
Как общества недружная семья
Безлюба и к друг другу безучастна!
Кахетинское, 10-й,
Цвет соломенного поля…
Вышел тучей тать усатый,
Горы-долы тьмой наполнив.
Кровью, болью и слезами
Захлебнулась, истекая,
Мать-земля в обнимку с нами…
Что ж ты, матушка, такая?
Три года, трилистник судьбы.
Родство, словно за три столетья.
Любовью сквозь тучи борьбы
К тебе не могу не светлеть я.
Не в этом ли счастье: вослед
За хмурью, дождями и стынью,
Всегда будет ясный рассвет
Дышать клеверами, с полынью.
Он, временем отмеченный, сидит
На холмике и слушает саванну,
Которая всегда за ним следит,
Тревожится: его молчанье странно.
Ужасен львиный рык, но ясен всем.
О чём, задумавшись, молчит он всё же?
«Я лев. Я есмь. Под золочёной кожей
Мой рык неизречённый – голос божий.
Я тех, кто сомневается, не съем».
«Жестокосердие, душевная болезнь…»
Жестокосердие – душевная болезнь.
Она растёт невидимо, как плесень.
Болезнь, не терпящая шума, песен,
Охотница в кого б ещё пролезть.
Её питает дом благополучный,
Дом бедняка, богатый особняк.
Для ненасытной всё не так,
Всё недовольна: сладко бы помучить.
Жестокосердие – убийственная сила,
И у своих детей не-вы-но-сима .
Июль 17 года —
Холодный, аномальный, ветреный.
Неравнодушная природа
Детей испытывает: верно ли,
Что всё они простят неласковой. —
Бесплодные сады и ливни,
Вдруг заливающие наскоро
Деревни, города, долины.
Простят ли грозы ошалелые,
Когда бросаются в падучей
На землю и плоды незрелые;
Грозят, гремят огромной тучей
И градом бьют, как пеной белою.
Привычен людям даже град.
Как пережить духовный глад?
Смотрю окрест, роптать? Смеяться ли?
Сквозь земли и все нации
Фантомной болью год 17-й.
Кровавый и решительный,
Благой и разрушительный.
«Здравствуй, фиванский философ, поэт…»
Здравствуй, фиванский философ, поэт, астроном.
В доме твоём через краткие двадцать веков
Chaire [5] Chaire ( франц .) радуйся. Повседневное приветствие древних греков.
, говорю, улыбаюсь, сижу за столом,
Слушаю, думаю: словно по розе ветров,
Знания греков летели, как семя маслин,
В дикие земли, где разум был в прах угнетён
Страхом природы. Но сущее – разум, а с ним
Культ возникал, покорял, и, божественный, он
Рим, и Визáнтий, и мир захватил, осветив.
Читать дальше