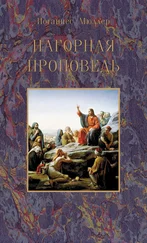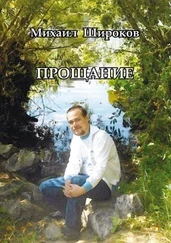Вот откуда я родом.
Встретившись с родиной, я почувствовал, что должен просить прощения за многое, очень многое. Я был исполнен покаянной мольбы о прощении. У Францля хотелось мне просить прощения, ему я причинил больше всего зла. Но Францль недоверчиво отворачивался от меня: «Поживем — увидим». У Ксавера хотелось мне просить прощения, — как могло, в самом деле, случиться, что я поссорился с ним! У Штехеле, учителя музыки, я просил прощения и обещал ему каждый день по часу играть «Грезы» Шумана. Перед бабушкой я тяжко провинился: мне хотелось поскорее вырасти и каждый месяц из моего заработка тайно класть в ее старомодный шкафчик десятимарковый золотой. И Христине я причинял много огорчений. Разве не гадко было задирать ей подол и этим выводить ее из себя? Наконец, родители. Я платил им черной неблагодарностью за все их добро. Но как только я вспомнил об отце, мое покаянное настроение сразу же поколебалось. Нет уж, лучше обратиться к этой прекрасной, мирной картине, обратиться к родине, где повсюду обитает господь бог, и молить его: «Прости меня… И избави меня от лукавого. Аминь».
Это была такая же прекрасная, мирная картина, как та, которую я нарисовал бабушке и под которой написал: «Радость».
Я чуть не забыл дополнить прекрасную, мирную картину кровопролитным боем под Мукденом, где японцы нанесли русским такое ужасное поражение. Генерал Стессель был моим героем, он и от нашего кайзера получил орден. И все-таки Порт-Артур пал. Позже, правда, стало известно, что генерал Стессель был подкуплен японцами, поэтому он почти без сопротивления сдал крепость со всем гарнизоном. Тогда кайзер потребовал свой орден обратно.
И вот из-за лугов и полей, из-за холмов и гор моей родины показался громадный русский флот, он подплывал все ближе. Тишину разорвал грохот страшного Цусимского боя, в котором японцы под командованием адмирала Того пустили ко дну русскую эскадру.
Я сидел высоко на марсе и обозревал море, покрытое трупами и обломками кораблей. На горизонте сплошную завесу клубящегося дыма прорезали вспышки выстрелов из огромных орудий. Столбом вздымалась вода, языки пламени вырывались из раскаленных бронированных башен. К броненосцам подкрадывались торпеды, проносясь почти у самой поверхности воды и оставляя за собой пенящиеся борозды. Так как мне ничего другого не пришло в голову, когда волны сомкнулись над моим тонущим кораблем, то я запел:
О черно-бело-красный флаг,
Мы все — твои сыны —
До гроба каждый вздох и шаг
Тебе отдать должны… Ура!
Отец знал все. Даже название каждой горной вершины. Он ничем не напоминал городского отца: не противился расспросам о той поре, когда был деревенским мальчиком, признавался, что любит свое прошлое, хотя в городе он последнее время не слишком охотно на него оглядывался.
Поутру, поднявшись, — «Генрих!» — будила его мама, — отец наполнял комнату бодрым свистом. За завтраком сидел на террасе без пиджака, пощипывал мать за щеку и нежно звал ее: «Бетти!» На мою тарелку он клал аппетитный крендель. В руках у мамы свисали с ложечки янтарные нити меда. За завтраком пахло хвоей и куковала кукушка. Отец часто снимал пенсне, его глаза не жалили теперь, не были колючими, как в городе, когда он читал свои судебные дела, и он весело хлопал себя по ляжкам волосатыми руками.
Отец повел меня в замок на горе.
Дома я не раз вырезал и склеивал из бумаги замок Нойшванштейн. Набив его ватой, я приступал к осаде и обстреливал замок зажженными спичками. Как только пламя охватывало его, я приказывал моим войскам переходить в наступление, а моему оркестру играть «Станем на молитву»… Оловянные солдатики, на которых была возложена защита крепости, плавились в бесформенные комочки. Убитые не выходили из игры, убитые и раненые даже продавались в отдельных коробках на Променаденплаце, в специальном магазине, который так незаметно притаился на углу площади, как будто в нем тайно велись войны: можно было часами простаивать перед его витриной, разглядывая наступающие армии и ярко раскрашенные поля сражений…
Отец держался так, словно был хозяином замка. Гордый и преисполненный сознания своей мощи, переходил он со мной из зала в зал. Валькирии парили на конях, на одном из гобеленов пел Лоэнгрин. Дворцовый привратник позволил нам полюбоваться королевским золотым рукомойником: вода текла из сверкающего клюва золотого лебедя с алмазными глазами. Посреди обнесенного колоннадой двора был искусственный пруд. В полуночный час, под звуки невидимого органа, льющиеся откуда-то сверху, король, одетый рыцарем-лебедем, садился в серебристо-голубую ладью.
Читать дальше