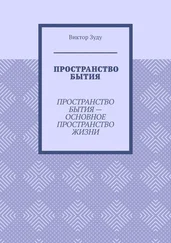Человек, помогай себе сам.
Бетховен
Искусство – шанс уйти хотя б на миг
от дикости, что прет в своем же мраке.
Не выразит намек, не схватит блик,
тут чад свечи не в счет – пылал бы факел!
Какая же наивная черта:
боль оправдать одним злосчастным фактом…
Когда б грозила только глухота,
слепцов одна б вязала катаракта,
он это перенес бы, как-никак
в борьбе с судьбой натуре лишь закалка —
тут вся Европа наперекосяк…
Надежда ведь была… Ее-то жалко.
Где даже тот, что, вроде, шел на бой
с коронами за волю, равноправье,
что связан «Героической» с тобой,
как с братом, – на поверку раб тщеславья.
Где смирный обыватель, как утес,
привычно наблюдает из окошка:
очередной правитель… что привнес?
как это отразится на кормежке?
Приноровиться к веку – не с руки!
Годину бед пересидеть бы тихо… —
искусство шло извечно вопреки,
когда оно искусство, а не прихоть
придворная, притворная. Раним
неискренним прохожих сожаленьем,
в минуты силы – состраданье к ним,
в минуты слабости – ответное презренье.
Когда взамен не внешний зов, а тот,
которому до фенечки непруха
с любовью, с мимолетностью щедрот
временщиков – гул внутреннего слуха
житейскую покроет кутерьму
на второпях сколоченной арене.
Высоты духа гения… Кому
судить его – кружиться в вальсе Вене.
На торжище, где та же толкотня,
незваному такому ж, нелюдимому
нести б хоть искру с прежнего огня!
Нам, не слепым и не глухим, – все мимо…
Но факел ведь горел! Ужель закат
смиренный утянул его за море,
где изредка ему взметнуться над
изысканным мирком консерваторий?
Одна надежда и на этот раз:
хоть не оставил ни детей, ни брата,
вдруг снова зазвучит в рассветный час
из-под развалин духа хор 9-ой…
Приплыли, бездумно на веру приняв
заветы пророков непьющих:
терпя и трудясь, свой притащишь состав
в какие-то кущи, не кущи —
к театру, где если и праздник – не твой,
да сам по привычке не ропщешь.
Комедию драмы ломает герой,
где ты родовой гардеробщик.
На вскидку ж терпенье – такой примитив,
что как ни накладывай ретушь —
ты старый, ты нищий, ты списан в архив,
где копится всякая ветошь.
В заначке, как память порой ни шустра,
известности нет и в помине,
баланс подведен: ни кола, ни двора
что завтра, что присно, что ныне.
Блокноты, блокноты… словесный стриптиз,
приют мимолетным страстишкам —
и брошен, забыт, словно чеховский Фирс…
Казалось, был сад и домишко,
как давний мозоль: не хорош, коль не трет,
всегдашний объект для ворчанья.
Отход незаметный оркестра, в отсчет
играющий – в фарс расставанья,
с которым и ты поплывешь в унисон,
как вырубят вишни-черешни.
Кончается явью чуть скрашенный сон,
проснуться в пейзаже нездешнем,
где публика сгинет, где свой номерок
куда, недотепа, навесил?
Уехали. Дом заколочен. Итог
обычный: ни плясок, ни песен.
Как ни суетился, простыла кутья
за пару линялых довесков
в ладошку сметаемых крох бытия,
что так и не стали гротеском
житухи какой-то иной, что смогла б
вся в лаврах катиться с успехом…
И, вроде, не в пьянке – в стихах был не слаб —
к пустому театру приехал.
Хоть и сменил декорации, жизнь подошла
к возрасту, что знатоки называют тоскливым —
август, и в реках спадает вода, и тепла
не удержать поржавевшим, склонившимся ивам.
Как пронеслась она, юркая! Только что тут
все под рукою, казалось, и не было часа,
чтобы его не заполнить до верха, маршрут
был нескончаем и даже, казалось, с запасом,
не на одну… Сыновья вырастали, и дом
укоренялся в подпочву чужую прочнее,
чем в роковую родную, что тянет с трудом
нищенский, кровью повязанный комплекс идеи.
Но это только казалось, туман или смог
сгинет, подует лишь ветер да солнышко встанет —
слыть объективным за 70 проще, чем в срок,
только что спущенный промыслом зрелости ранней.
Если же трезво – кончается лето, а там
осень свои подобьет ключевые итоги,
хрупкая сущность расколется напополам —
в до или после заветной прощальной эклоги.
Читать дальше

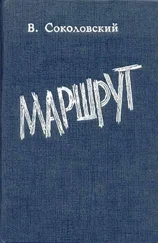




![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)