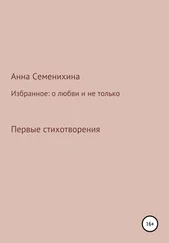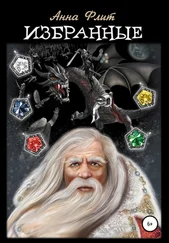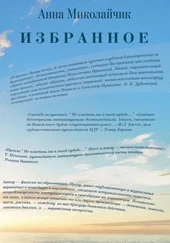Неужели все-таки есть идущая из каких-то неисследованных глубин расовая рознь, невозможность некоего главного понимания, враждебность, глухая непроницаемая ограда в чем-то самом сокровенном. Рассудочно поймешь, чувственно, сексуально сблизишься, но некоего метафизического (вынуждена прибегнуть к этому термину) понимания нет и очень долго не будет, пока вся человеческая масса на земле не сольется в одну расу.
Как бы не получилась мутная и грязная вода вместо органического слияния.
* * *
Пафос верования может, остаться в полной девственности у человека, потерявшего способность двигаться, зрение, обреченного много лет покоиться в матрацной могиле. Гейне много интересного рассказал об этом состоянии. Неужели же у других ни разу не было внезапной невольной вспышки внутреннего протеста: зачем и за что, и ради чего , собственно? Так вот лежал и елейно диктовал, и гордился? Неужели у полутрупа сохранился где-то «за порогом сознания» неистребимый инстинкт самосохранения? Лежать, не видеть, пусть тебя кормят и обмывают, пусть сохраняются удобства и комфорт (страшно), достигнутые таким безумным нечеловеческим напряжением, такой невероятной жертвой? Только бы вот хотя бы так жить, т. е. дышать и диктовать, а значит во имя сохранения всего этого нельзя позволить себе ни одного слова протеста, тени страдальческого сомнения.
А все-таки что таилось за неподвижной парализованной маской? Неужели даже внутреннего колебания, легкого дуновения не было? Если возможны такие вещи, «можно только указать и пройти мимо».
Были же столпники, но ведь они видели, слышали, обладали всеми пятью чувствами.
«Живые мощи»… Но, кажется, эта женщина все-таки видела. И парализованный Гейне видел. Глухонемая и слепая, изучившая тьму наук американка двигалась все же.
Задыхался от астмы много лет Марсель Пруст, жил в обитой пробкой комнате. Но он видел, двигался.
…Ума большого и таланта не было. Значит, одна только непомерная сила слепого верования (если человек, повторяю, не лгал сознательно или бессознательно). Ну, религиозный инстинкт живуч, с ним ничего не поделаешь, а это, безусловно, религиозный инстинкт, приобретший новую форму.
10/II.
Прочла у Г. Н. три вещи Уэллса (от 1928–1933 и 1936 г.): какой-то мистер «на острове Ремпол», «Бэлпингтон Блепский» и «Каиново болото». Настроения английской интеллигенции (да, пожалуй, и европейской) перед первой мировой войной, после войны и в преддверии второй.
Гротескно-фантастическая утопия. Герои первого и третьего произведения <���нрзб.>, они видят и чувствуют мир как страшную первобытность (людоеды, мегатерии, «укоризна», «остров Ремпол» у одного, «каиново болото», покоренное восставшим духом, кажется, неандертальского человека, у другого). Герои излечиваются, т. е. психиатры возвращают их к нормальному восприятию действительности. Не остров Ремпол, населенный грядущими, смрадными, злыми людоедами, поклоняющимися «Великой богине» и омерзительным, еще более смрадным мегатериям, не «каиново болото», а реальная современная эпоха великой техники, гуманизма, эпоха стройных, хорошо организованных парламентских государств, дерущихся между собой так же зверино-злобно и по тем же причинам, как современники мегаторий, обитатели острова Ремпол.
* * *
А «Бэлпингтон Блепский» — сатира на интеллигента же. Смесь Хлестакова, декадента и чеховского героя на английский манер. Бэлпингтон Блепский, по правде говоря, почти у каждого интеллигента обитает где-то в уголочке души хотя бы. Он и возвышает душу при полнейшем реальном ничтожестве, и уводит от мира, и поднимает над ним, и самым волшебным образом видоизменяет этот мир нам в угоду и… приводит к катастрофе. Бэлпингтон Блепский — результат длительного лжегуманитарного воспитания, когда историю мы воспринимаем как ряд пышно раскрашенных декораций.
* * *
Исторический процесс, кровавый, грязный, противоречивый, с резкими скачками горячечной температуры, с гримасами, с эпохами, корректирующими одна другую, оставался для нас глубоко чуждым, неизвестным.
И вот героический средневеково-ренессансный Бэлпингтон Блепский был брошен в первую мировую войну, т. е. в грязь, во вши, в кровавое месиво… Герой удирает с бойни, симулирует, ведет себя похабно, паскудно, плачет… Из презрительной жалости его спасает врач. Бэлпингтон Блепский быстро приходит в себя, загоняет позорные воспоминания за порог сознания; он снова герой, он лжет, искренно лжет и, уже совсем по-хлестаковски, вдохновенно, под пьяную руку, рассказывает, как он взял в плен Вильгельма и затем по распоряжению свыше довез его до голландской границы и выслушал последнюю исповедь императора, к<���отор>ый, оказывается, желал быть ангелом мира, но силой обстоятельств вынужден был стать ангелом войны.
Читать дальше
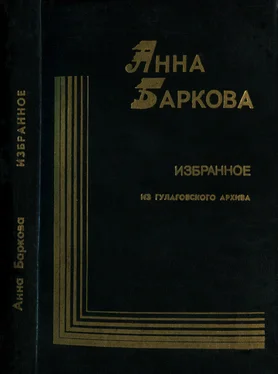

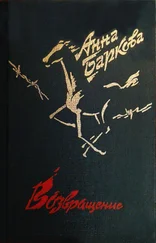
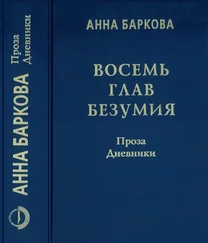

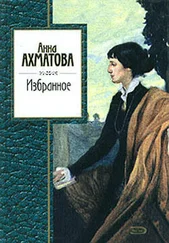
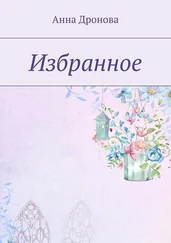
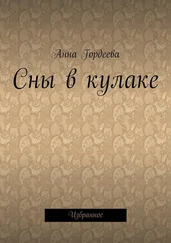
![Анна Соломахина - Избранная волка [СИ]](/books/430627/anna-solomahina-izbrannaya-volka-si-thumb.webp)