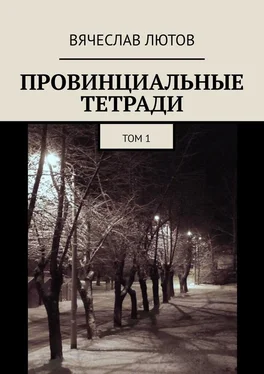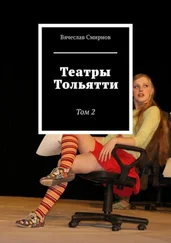1992
«Что ж, попрощаемся… Пора…»
Что ж, попрощаемся… Пора
И мне спешить за нею следом,
Той, что уносит со двора
Мои восторги и победы;
Той, что смягчает пыльный бред
И в акварели листья прячет;
За той, что никогда не плачет
Над теми, кто идет вослед.
1991
И вот, когда по сонным кварталам растеклась ночь,
и все сломлено,
и потеряны линии крыш и деревьев,
мне печально и тихо.
Сигаретный дым будет медленно наполнять комнату,
чай в чашке будет остывать,
а ноги мерзнуть от сквозняков —
как обычно;
как обычно придут незванные сентиментальные мысли,
и мы станем говорить ни о чем:
быть может, о погоде,
о первом снеге,
о северном ветре;
и все лишь затем,
чтобы отогнать скуку,
чтобы развеять грусть,
чтобы почувствовать себя не таким уж одиноким, как раньше,
и не совсем одиноким, как потом.
Мне что-то говорит мой призрачный гость,
одетый в серый плащ и даже не снявший шляпы;
но о чем он ведет речь – я могу лишь догадываться.
Слова его ритмичны, словно он читает свои новые стихи —
и минуты приложимы друг к другу, как строка к строке;
я улыбаюсь,
я уже давно не попадаю в рифму,
я повис на стене, подобно картине,
я повис на стене, подобно гитаре,
на которой никто из моих домашних не умеет играть.
Нечаянный гость укоряет меня в лени;
впрочем, я согласен с ним,
а потому мне ни капли не стыдно —
я бездумно валяюсь на диване и мну пальцами сигарету,
смотрю на коричневые обои,
смотрю на свою фотографию, где мне всего семь лет,
смотрю на книжные переплеты,
смотрю на качающиеся занавески,
смотрю на переливающиеся хрусталики лампы, —
и нахожу в том неведомую доселе привлекательность…
Человек в сером плаще смотрит на меня безнадежными глазами —
он —
мое провинциальное вдохновение —
нелеп и бесцветен.
Я говорю ему,
что не стоит лишний раз тревожить душу —
свою и чужую —
равно как не умея играть, садиться за белоснежный Беккер
и пытаться неподвижными и негнущимися пальцами угадать две-три ноты,
одну за другой.
Нет, – говорю я ему, – к чему все твои старания?
Сейчас, должно быть, он обидится на меня,
возьмет прокуренными пальцами фетровую шляпу
и приподнимет ее, прощаясь —
но он назойлив,
как муха, что ползает по моим бумагам
и читает их по диагонали, подобно маститому снобу-критику;
он смотрит на меня своими большими глазами
и спрашивает о завтрашнем дне —
откуда я могу знать о завтрашнем дне,
когда я даже не представляю себе сегодняшней ночи…
Он перебивает меня холодным замечанием,
что как раз ночь, увы, уже на излете,
и что никто, кроме него, меня теперь уже не потревожит
ни стуком,
ни криком,
ни взглядом,
ни вздохом;
а оттого он осмелился назвать меня братом —
пусть будет так;
он польстил мне, назвав мой ум светлым и гордым, —
пусть будет так;
он предсказал мне, что я умру с почетом и во славе —
пусть будет так, —
совсем не плохая участь…
Он сказал, что руки мои трескаются от безделья —
и ошибся;
он сказал, что я ни дня не проживу без строчки —
и ошибся;
он сказал, что я должен войти в лоно литературы,
подобно тому, как входят в лоно женщины, —
и ошибся…
Ты плохо кончишь, – обреченно подытожил он
и отставил чай в сторону,
и потянулся за сигаретой,
и стал искать глазами спички
и пепельницу.
Вот-вот…
кто из нас сгорит раньше,
чем эта спичка успеет почернеть и скрючиться?
Мой друг, – сказал я, – мы и сами не знаем, чего хотим;
зачем же нам винить друг друга;
наши слова прекрасны —
так стоит ли злоупотреблять этой красотой,
придавать ей одноразмерность, созвучие? —
ибо невозможно подчинить закону хаос,
и любое ars combinatoria —
лишь тщетная попытка параграфа подчинить себе все смыслы.
Ты неисправим, – ответил он, —
ты находишь тысячу оправданий своей лени,
ты жаждешь публично зарыть свой талант в землю,
ты хочешь, чтобы тебя жалели,
ты хочешь, чтобы тебя любили,
ты хочешь, чтобы о тебе пели,
ты хочешь, чтобы тебя признали богом —
смешно…
смешно
потому, что этого хочет тот,
кто ни разу не ударил палец о палец,
кто ни на сантиметр не приблизился в желаемой цели,
кто только и делал, что оглядывался по сторонам, всего пугаясь…
Читать дальше