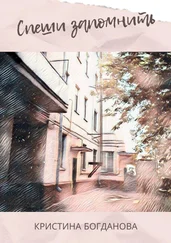Она истерично смеялась и собирала в округе кусочки блузки. Проклятого шелка,
что душит ей колко ребра, когда она любит. Она почти ничего не сказала, а я почти
не хотела сказать. Она убежала так быстро, что ее я не успела назвать своей.
Только ее темный волос. Ее томный голос остался со мной, как и всегда.
В рассветном блеске пустого Спасского тупика.
Позже она звонила и, кажется, истерила. Искала меня у знакомых. Грубила
моим подругам. Носилась по кругу. Искала причала.
Кричала. Писала. Просила о встрече. Но все, что осталось на сердце, – тот бешеный вечер. То ясное утро.
Глупо. Я знаю. Глупо. Мне было так жутко. Словно
безумная мука – в памяти ее руки. Ее грубые скулы. Темные волосы.
В осанке какая-то дивная подлость…
Прости меня, Ната, что было так грубо. Я была юной. И мне хотелось свободы.
Полета. Хотелось быть разной. Вязкой. Со всеми ласковой. Влюблять и влюбляться.
Хотелось странных, сказочных женщин. Встреч вечных или не очень. Лета хотелось.
И ветра. И ссадин. Боев. Но только не снега, того, что в тебе до краев.
Ната.
Мы не уедем в Бруклин.
Как я обещала.
Как ты обещала.
Мы с тобой не уедем в Бруклин.
Но я тебя никогда не забуду.
Нет, не забуду.
Ты – синоним любви, которая клялась быть отверженной
и не обманула. Сколько на планете извержений ежедневно
скрежетом вулкана капают на простыни, словно рана
на теле гордости каждого человечка в масштабе человечества.
А ты – остров детства в скоротечной вечности, открытый мной
посреди океана гостиной нашего дома с запахом пыльной рутины
будней. Кто-то просто живет, ест, спит и дышит, а мы плывем
на огромном судне мечты, где суть – не очерниться, в трюмах
времени не поскользнуться об острия обид, о перила лестниц,
ведущих к свободе, которая есть монолит из любви на эшафоте
жизни.
Ты – слышимый звук по холсту скользящей кисти из образов
и восприятий. Ты просто уснул, а над твоей кроватью, над
потолком над кроватью, над скошенной крышей дома,
в котором ты спишь, зацветают стаи синих ночных фиалок
из поцелуев и слов. Ярок их аромат, но не ярче того света,
что ближе к рассвету льется из окон нашего дома
со скошенной крышей, где ты спишь.
А я не сплю. И жду твоего пробужденья. Прихода.
Звонка в закрытые двери, каждого слова, каждой минуты,
когда, падая в теплые руки, я больше не жалкий кусок материй,
а новый синоним любви. Которая так истошно клялась стать
просто безбожной пьесой эмоций и зова плоти. Канат из боли
покрепче на шеях наших стянула, но, к счастью, по-детски ошиблась.
На радость обоим
нас
обманула.
На крыльце старого дома
сидел малыш и смотрел на цветы
в долине.
Цветы распускались и увядали,
цветы пахли раем и небом.
Малыш возвращался домой,
где мама пекла пирог.
Он уплетал куски и смотрел сквозь
призму оконного стекла на синие звезды.
Звезды падали и загорались,
разливая по долине невесомое серебро.
Малыш засыпал в своей постели
и слушал, как летний ветер треплет
лен занавесок.
Занавески вздымались и опускались на подоконник.
Малыш спал и видел во сне Бога.
Руки Бога были из стекла, а глаза наполнены светом.
Малыш вырос и забыл о Боге.
А Бог каждый вечер приносил на крыльцо старого дома
живые цветы и ждал, что однажды
малыш снова поверит в их красоту.
И если отзвенело во мне лето восьмого года, и жизнь встала
на край, качая головой по сторонам и валясь с ног,
поздней ночью приползала в квартиру, дрожа и смеясь.
На полу судьба отмечала крах всего святого, как море о кафель,
ручьем билось по вискам, сдувая с планеты все это;
а если память жива, как день, как яркость огней, то
незачем даже жевать и реветь, отзвенело все в тебе дрожью
каких-то фланелевых дней, что качает эта смешная планета
в ладошках, и сквозняки, проплывая мимо ушей, свистят об обратном.
Но если так душно в гортани, что с головой ныряешь в пустырник,
зарываешься глубже по пояс, как парус, будто каждый изгиб воспален
живым и горьким, и на разрывах изъяны наружу, но если
выполаскивать нечем грехи из простыней и просто грехов больше,
чем веры, напролом зажжет веру, и зароет глубже,
и не проснется смертью, и не посмеет жить сном.
Читать дальше