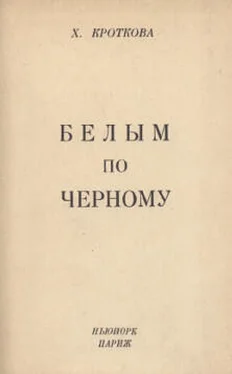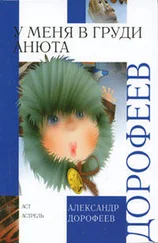Даль туманится утром и небом,
И душа пробудилась небесной.
Каждый день возвращается бездна,
Сердце вечно блаженно и немо.
Эта жизнь — для меня, для тебя ли?
Не огромная ль сонная жалость
Неожиданно нам примечталась
В ненасытной блаженной печали?
И когда мы сияем глазами
И внезапно вдвоем умираем, —
Залетая, взлетая, слетая, —
Звездный дождь над блаженными нами.
О, навстречу слепому восторгу!
Руки вскинув и тяжко внимая
Хвойный посвист, что рати сгоняет
На ночную пустую дорогу.
Мы под диким и сумрачным небом
Мечем души, блаженно теряя,
И прекрасный закат обагряет
Нашей страсти белеющий слепок.
«Цепляясь в облаках, шатается, бледна…»
Цепляясь в облаках, шатается, бледна,
Безумная цыганская луна
И смотрит исступленно, как в бреду,
В огромную ночную темноту.
К холодному стеклу горячая щека,
В забывшейся руке забытая рука,
И в тишину, в бессмертие — в упор
Твой пристальный, твой устремленный взор.
Предутренняя вкрадчивая весть
Отяжелевший оживляет лес,
Где соловьиным голосом, под небеса,
Кричит великолепная весна.
«Ты от меня улетишь, как осенняя птица…»
Ты от меня улетишь, как осенняя птица —
Надо, пора.
Будут и листья, и птицы протяжно кружиться
Завтра, с утра.
Наша ли жизнь, задрожав, зазвенев, оборвется
Без очевидной вины?
Помнишь ли звук, что подчас в тишине раздается, —
Лопнувшей тонкой струны?
Ты от меня улетишь, как последняя птица,
В страхе грядущего зла.
Ты от меня улетишь, не посмея проститься
Росчерком вольным крыла.
В долгую, светлую ночь, над пустыми полями,
В поздний морозный восход,
Ты улетишь, как они, за былыми годами,
Не задержавши полет.
«Постучишься, войдешь. Не войдешь, а ворвешься…»
Постучишься, войдешь. Не войдешь, а ворвешься. И градом
Опрокинув испуг и разбившись на тысячи брызг,
И в пустом изумленье зеркал отразившись подряд многократно,
Рассмеешься. И снова на брызги, на тысячи радостных искр.
И под грохоты эха зеркал отразившись, рассыпавшись, ахнув,
Вдруг глаза остановишь на странной моей тишине,
Громким счастьем своим смущена. И заметишь, что ждал, словно плаху,
Не сводя своих мыслей с тебя и любя все нежней, затяжней.
Баллада («Мы за сны свои не властны…»)
Мы за сны свои не властны,
Мы за мысли свои не в ответе.
Угадай, что придумал весны
Нашумевший восторженный ветер!
Были двое — не я и не ты,
Но такие же дети судьбы,
Но такие же правнуки тьмы,
Своенравны, горды.
Говорил — ни за что, никогда,
Говорил, что на свете одна
И, — как ночь, тишина и луна —
Триедина везде и всегда.
А другой, от злобы кривясь,
Говорил, что взбесился скакун,
И хотел показать свою власть
Без седла и на всем скаку.
И умчался, безумен и слеп,
Только ветер в ушах свистел,
А оставшийся долго смотрел
Сумасшедшему всаднику вслед.
Полюбил голубиный покой
Тихий пленник счастливой любви
Ты мгновения не торопи:
Все забудут, и тот, и другой.
Знаю, дни облетят,
Словно цветень торжественных яблонь.
И блаженные ветви озябнут,
И воротится осень назад.
Много в жизни отрад,
Много лести и прелести сердцу —
Исполнять от рожденья до смерти
Непонятный и сладкий обряд.
Но любовный восторг
И прелестней других, и прекрасней.
Розоватыми жилками счастья
Испещрен бытия лепесток.
Затихают века.
Одинокое счастье пылает.
Закрывая глаза, умирают,
И любовь и тиха, и легка.
И из крови — трава
Зеленеет веселою славой.
Меч ветшает, кровавый и ржавый.
И над жизнью — слова.
Оттепель («Мы вслушивались в ветра смутный бред о нас…»)
Мы вслушивались в ветра смутный бред о нас.
Река в объятьях льда немела и дрожала.
Измученных огней заплаканная преданность
Нас долгим мутным взглядом провожала.
Я верю в лед: он прочен, тверд и зол еще,
Послушная вода молчит, дрожит и стынет,
И не предчувствует он громкого позорища
Изломанной, крошащейся гордыни.
Читать дальше