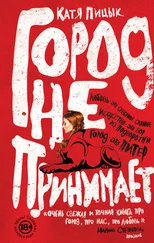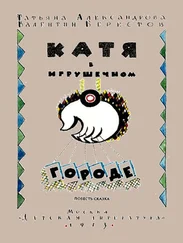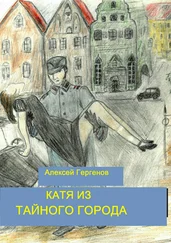Над сонною невнятицей утра,
над ясной равнодушною природой
зачитывают перечень утрат,
под это всё заносят гроб в ворота.
Тут утренний спокойный тихий снег
записан в Менделееву таблицу,
под ним проходят десять человек
плюс тот, кому так сладко утром спится.
Надтреснуты, темны – какие есть,
тут звуки надрывают перепонку,
бессмертный, истрепавшийся оркестр
разлуку репетирует неловко.
Тут неизменна женщина в платке,
и небо цвета серой мешковины,
и хмурые, с ремнями на плече,
не очень современные мужчины.
«Посыльный, посыльный, посыльный…»
Посыльный, посыльный, посыльный,
чего в своей сумке несешь
по синей дороге, по синей
сквозь ветер и солнечный дождь?
Посыльный, неси нам скорее
от Плиния добрую весть
про синие горы Помпеи,
про римскую доблесть честь.
Читайте, читайте, читайте,
какая в Помпее беда.
Ни сестры, ни старшие братья —
никто не вернется сюда.
Погиб от Везувия Плиний,
любимец толпы, сибарит.
На синей дороге, на синей
теперь небеса сторожит.
Безропотно переживай
свою беду, свои победы,
как воду их переливай,
и сердце сердцу исповедуй.
В него вошло так много игл,
как стрел в святого Себастьяна,
как бранных слов в живой язык,
и грешный наш, и окаянный.
Но хоть сто лет вперед-назад,
на том и строится свобода —
на перебранке двух солдат
у переправы возле брода.
«Слышишь, ветра свист надо всей вселенной…»
Слышишь, ветра свист надо всей вселенной,
пение в гребенку тростника,
будто спичкой бьют в коробок фанерный,
разбивают речь будто на слога.
Лыжник бы натер в эту пору лыжи,
потому что он дельный человек,
конькобежец-друг с ржавчиною рыжей
справился в момент. И из этих всех
радостей земных только слух крылатый
и родной словарь дали нам на жизнь,
иней прохрустел, вышел зверь сохатый
и увидел снег и услышал свист.
Всё зря и ничего не видя,
идёт слепой на поводке,
выстукивая тростью плиты,
несёт продукты в рюкзаке.
Лежит кирпич на тротуаре,
стоит с сырым песком ведро,
гнусавит нищий, «р» картавя,
и грязью брызжет колесо…
Слепой, слепой, смеются дети.
Ах, что сказать? Ведь, вправду, злит
вид тихой тросточки на свете,
звук вечной музыки из плит.
1
Мы более с тобой не нытики,
глядим на мир мы однозначнее,
случайные картинки с выставки,
другие девочки и мальчики.
Уходят литерные длинные
в пункт основного назначения,
мы высморкались, слезы вытерли,
жизнь прожили, прощу прощения.
2
Когда мне про любовь к отечеству
вошь заливает узколобая,
я ненавижу человечество
со всей отчаянною злобою.
Я ненавижу его истины,
его предательскую музыку,
за существительные с «измами»,
всю эту ряженую публику.
3
Чекистские гуляют соколы,
неонацисты с заморочками,
куда жиды Россию продали,
грузите арестантов бочками.
Грузите память стеклотарою,
пускай горит она сиренево
за нашу юность окаянную,
за Венедикта Ерофеева.
4
За Гумилева и Поплавского,
за розы, что не будут брошены,
давай, губерния, рассказывай
с просодией во рту некошеном.
За то, что жить мы будем сызнова
и языком чесать по-чёрному.
А ты фильтруй базар бессмысленный,
сказал в ответ поэт издёрганный.
5
Твой синенький платочек вылинял
за листопадо-снегопадами,
но ты всё та же, взор и выговор,
красива правдами-неправдами.
Куда идешь ты, непутёвая,
чуть выпившая и без пропуска,
склоняясь вправо под обновою,
как будто писанная прописью.
6
Налево – дачный лес строительный,
направо – лес почти что девственный,
шмелей полет центростремительный,
там городок, рекой отрезанный.
Туда душа моя стремится
за мыс печальный Меганом,
дочь эмиграции колбасной,
туда приду я с похорон.
7
И видит бог, всё будет в точности
исполненным такой же вечности,
все подростковые неловкости,
обледенелые конечности.
Поле огромное, туманное,
базар закрыт, есть бутербродная,
под солнцем пруд, как каша манная,
поговорим же, мама рОдная.
Читать дальше