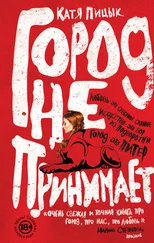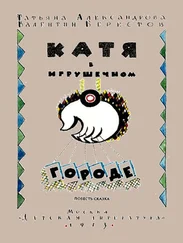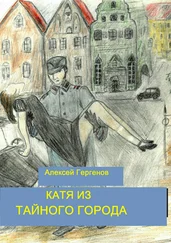А возвращаешься в столицу —
они опять возле метро
с какой-нибудь фигней в петлице
и с фиксою под серебро.
Играет музыка в бумбоксе,
сосед соседу говорит:
«Я, Саня, пить недавно бросил».
Хромает мимо инвалид.
И возле сердца – профиль Цоя,
который до сих пор поет.
И вся Россия в этом вое,
и пес вам лапу подает.
В семь пятнадцать рассвет так похож на закат,
мокрый снег полосою струится в окно,
застучит из тумана дружок-автомат,
автомат для газет звякнет медью о дно.
На рассвете, где бешено мечется снег,
это очень несложно, мой друг, проглядеть,
проглядев, не заметить, понять, умерев,
что в сырые газеты завернута смерть.
Смерть завернута, друг, в голубые листки,
настоящая смерть, смерть-война, не любовь,
я газет не читаю, я прячусь в стихи,
и, плохой гражданин, умираю в них вновь.
И, плохой гражданин, каждый день я встаю,
а встаю я, мой милый, ни свет ни заря,
на вчерашнюю смерть свою дико смотрю,
вспоминаю: убили совсем не меня.
«Раздельно губы произносят „ча-ча-ча“…»
Раздельно губы произносят «ча-ча-ча»,
мы взяли две бутылки первача,
у моря черного толкалась дискотека,
и это было тоже как вчера.
Где вдоль полей нечёткая дорога,
другая музыка у моря бьет с разбегу,
считай по-нашему, мы выпили немного,
ребята из советского двора.
«Над промзоной на Урале…»
Над промзоной на Урале
пролетали небеса,
трубы, как валторны, распевали
без конца.
Хорошо быть в жизни пионеркой,
пробовать все в самый первый раз,
грустно старой быть и нервной,
вспоминать все в сто десятый раз!
В сто одиннадцатый раз божиться:
нету лучше тех людей,
чем в промзоне, в той больнице,
где, вдыхая запах простыней,
вижу: провезли кого-то в коме,
пробую привстать и не могу,
вертолетом на аэродроме
лишь руками белыми машу.
Белыми кричу вослед губами,
вызывая у лежащих смех.
И на всем Урале над дворами —
снег, снег, снег.
Пусть его и не было, дружище,
просто санитар кольнул иглой,
и душа скользнула в воздух нищий
из окна больницы областной.
«По выходным в глухом местечке…»
По выходным в глухом местечке
соседний инвалидный дом
автобусом вывозят к речке,
заросшей пыльным камышом.
И там они в своих колясках
сидят в безлиственном лесу,
как редкий ряд глухих согласных,
пока их вновь не увезут.
На старости я тоже тронусь
умом и сяду у реки,
чтоб в пустоту смотреть, готовясь
к зиме, как эти старики.
И выйдет радуга из тучи
после осеннего дождя.
И скажет санитар могучий:
пора, родимая, пора.
«Первым умер спаниель Атос…»
Первым умер спаниель Атос,
ничего не объяснил домашним,
что-то мирно проворчал под нос,
помахал хвостом и стал вчерашним.
Даже кошка в трауре была,
ничего не ела две недели,
мы щенка другого из села
взяли в теплом месяце апреле.
Птицы звонко умирали враз,
рыбы молча вверх всплывали брюхом,
где-то вместе там зверье сейчас,
гулят, чешут лапою за ухом.
Где-то ждут, мурчат и ловят блох
там, в едином времени и месте.
Если есть на свете детский бог,
то погладь их, Господи, по шерсти.
У подъезда такси просигналит
на холодном проспекте, где львы,
где в осеннюю хрупкую наледь
запечатан гербарий листвы.
И поедет машина вдоль сада,
вдоль решетчатой тени оград,
вдоль прогулочного променада
с непременною ротой солдат.
В голом зеркале заднего плана
фонарей золотая строка,
канцелярий, контор панорама,
голубая, родная река.
Много пива под шапкою пены,
залпом выпито возле дверей,
ночью бил сильный ключ Иппокрены,
и поэтам трещал соловей.
И напел, натрещал, дорогие,
бесконечный полет вдоль земли
за волнистые и кучевые,
и далекую встречу вдали.
«Простые слова принимай на хранение…»
Простые слова принимай на хранение,
бумаги и авторские права,
неоновых ярких витрин отражение,
пробитую ленту машинки «Москва».
Читать дальше