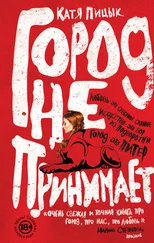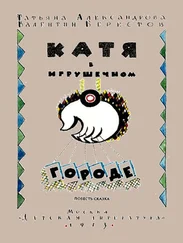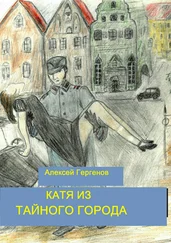От южных, шатающихся палисадников —
до самого Черного моря потом,
от наших курятников и виноградников —
разлет тополиного пуха с пером.
Столицу со всей бесконечной окраиной
прими и подшей к деловому досье,
сыграв на кирпичной и на белокаменной,
на ржавой железной котельной трубе.
«Как жизнь проходит мимо-то…»
Как жизнь проходит мимо-то
Азорских островов,
зато посуда вымыта
в один из вечеров.
И рядом честно-честно
стоят перед окном
нож для морковной резки,
стаканы кверху дном.
На маленькой сушилке
всё это много лет,
и белые снежинки
слетаются на свет
«Я презираю важные мундиры…»
Я презираю важные мундиры,
речуги, флаги на краю могилы,
светло припоминаю в этот час,
как лучший друг, ничем не знаменитый,
Андрей Краснов смешал бадью карбида
и, спичку поднеся, сказал «атас».
Он в школе мне носил портфель в четвертом,
он белокурым был и страшно гордым,
он до небес устроил фейерверк,
сжег пальцы, брови, но, когда горело,
он прикрывал меня предельно смело,
как прикрывать он будет целый век.
В наш век взрывоопасный кто поверит:
еще цветы цветут и солнце светит —
он спину мне прикроет без проблем,
он сгинет навсегда в Афганистане,
душа взлетит в большом аэроплане
и с высоты покажет палец всем.
Когда за две недели до расстрела
он в чайнике заваривал заварку,
вдруг бабочка огонь перелетела:
две белые, высокие махалки.
Она порхала там неосторожно
и в воздухе мелькала под плафоном,
она вовсю кружила по окружной
в предутреннем пространстве искривленном.
Потом она присела и застыла,
два крылышка сложила и устала,
и тихою была, как гроб-могила,
но в этом мире надпись написала.
В холодном синем воздухе коморки,
прекрасная, как Мёбиуса лента,
что солнце поднимается с Востока,
что счастье абсолютно, перманентно.
«На скамейку прилечь, завернуться в тужурку…»
На скамейку прилечь, завернуться в тужурку,
доведут тебя рельсы до Санкт-Петербурга.
Там прохожие чтокают, узнавая по реплике,
кто чужой, а кто свой. Там бордюры – поребрики.
Там на набережной битюги ходят с лычками,
над Невой долгий воздух усеян кавычками,
а пойдешь – и прямеет дорога до Выборга,
ледяные глаза по-над Ладогой выплакав.
«Как Джойс, что на рассвете века…»
Как Джойс, что на рассвете века
придумал Дублин крыш, дворов,
так я, дитя и неумеха,
придумала свой Кишинев.
И виноград пополз по стенам,
как сумасшедший альпинист,
и грянул горбачевский Пленум,
и перемены начались.
Мир хижинам и низким хатам
после годов холодной тьмы,
и в мае, в восемьдесят пятом,
отец выходит из тюрьмы.
На нем костюм того фасона,
в котором был он до всего:
до криков вохровцев, до зоны.
Я не придумала его.
«Пили кока-колу, лимонад…»
Пили кока-колу, лимонад,
на пустой катались карусели.
Я уже не помню и сама,
что там было впрямь на самом деле.
Было лето иль стоял октябрь,
а зимой там наряжали елку,
покупали новый календарь
или собирались только?
Если б я по-новому жила,
я бы лучше все запоминала,
я бы закусила удила,
я поверила бы, атеист усталый,
в то, что есть какой-то приговор,
пусть холодный, страшненький, но правый,
а не просто неба разговор
с черною канавой.
«Я ехала в печальный дом…»
Я ехала в печальный дом,
чтоб друга навестить,
я думала о том, о сем,
тянулась мыслей нить.
Как просто взял он на себя
и тихо нес в миру
простое звание шута,
подобно королю.
Когда прямой надменный друг
выходит в коридор,
он посылает меня вслух,
и так нормален взор.
С такою каплей доброты
глядите в нашу явь,
вы, века взрослые шуты
на детский мир забав.
«В пустом кирпично-каменном мешке…»
В пустом кирпично-каменном мешке
с утра болтают галки дворовые,
в моем окне, в моем пустом окне —
надтреснутые звуки духовые.
Под тёмным, проржавевшим козырьком
торжественно по всей глухой округе
о чём, о чём, о чём
заводят речь медлительные звуки?
Читать дальше