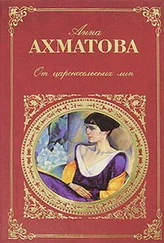Восславим времена, когда рука,
круша и рушась, молотила небо,
за пядью пядь, отчаянья поверх,
превозмогая торги, речь и грех.
С которых пор, дрожа, рассветный хлад
накалывает чаячьи крыла
на черные булавки? — Там, где своды
неволи возле Статуи Свободы.
Отказывает зренье — столь чиста,
и призрачна, и парусна чреда
и пестрота переводных картинок,
а день вдали — размытый фотоснимок.
Я вспоминаю фокусы кино —
ту спешку, тот мгновенный проблеск сцен:
быстрей, быстрей, но скрыться не дано,
и — новый пленник тех же самых лент.
И, в серебре, над миром, над заливом,
поверженный в сраженье исполин,
ты держишь рабства мирную оливу,
ты — поступь солнца, но пришел Навин.
Самоубийство — это ль не ответ
Содому и Гоморре? Пузырем
рубаха раздувается на нем,
победно оседлавшем парапет.
Твоих зубов размашистость акулья
вгрызается в дырявые дворы,
и Северной Атлантики пары
с тебя дымы и домоседство сдули.
И горестна, как эти небеса
еврейские, твоя награда. Рыцарь,
легко ль держать оружье на весу,
когда не смеет битва разгореться?
О арфа, и алтарь, и огненная ярость!
Кто натянуть сумел подобную струну? —
Трикраты значимей проклятия пророка,
молитвы парии, повизгиванья бабы.
Огни твои — как пенки с молока,
вздох звезд неоскверненный над тобой,
ты — чистая экспрессия; века
сгустились; ночь летит в твоих руках.
В твоей тени я тени ждал бесслезно —
лишь в полной тьме тень подлинно ясна.
Город погас иль гаснул. Год железный
уж затопила снега белизна.
Не ведающий сна, как воды под тобою,
возведший свой чертог над морем и землей! —
Ничтожнейший из нас все ж наделен судьбою,
убою подлежит и верует порой.
(…кричат рекламы, уплывая прочь —)
Застолби свое имя на вывеске,
братец, наляпай, не таись, назовись,
стань Текстилем или греком Лакикраски —
маски долой ради всеобщего блага! Тягу
дал Берт Уильямс от новорваных афиш.
Шиш! наворуешь цыплят, а поэту
завалящего крылышка нету —
ишо чаво! на тысячи миль вокруг
ночной сплошной телеграфный стук —
Фордисоны и Эдифорды
и стремительные головоломные кроссворды
мордой в небо: в то время, как скорости
растут, хворости гнетут, а коммерция и Святой Дух
в каждом радиоприемнике услаждают слух,
а Северный полюс попух,
а Уолл-стрит и непорочное зачатие до трех часов ночи
и прочие услуги на дому и — прочь,
к чертям, от церковных окошек, и кошек, и, господи
прости, дух бы перевести… как прикажете… ку-ку?
Вот тебе двадцатый век, вот тебе
предприятия — и одно безнадежное:
три оголодавших уставших мужика
таращатся на рекламы родимчиками в облака —
рекламы или кометы: шмыгнули хвостом — и нету?
(для тех, кто бродит с адресом вдвоем)
Последний мишка из лесов Дакоты,
хлебнув картечи допьяна, утек.
Стальных тисочков ювелирная работа
из вен пустила тикающий ток.
А все ж напитки не чета и четкам:
не выпьешь реку, а ручей — вполне,
ища ключи к своей души загадкам
или, быть может, мира засыхающий исток.
По компасу — но в камбуз: жвачка штатов —
Огайо, Индиана… мерзкий вкус…
Киталия. Германция. Эвбрус.
Желание блеснуть и полоснуть
по времени блесною техновспятий
вбивает крючья песен им во грудь,
и ветра вертелы визжат в любом куплете:
Прощай, Кентукки, и Денек вдвоем,
и Прем, куда попрем. Я внемлю этот гром,
и вот дружок, с двуствольным глазом кольта,
о господи, твердит, люблю я дыню со льда!
Хмельные тучи брызжут над землей.
«Была старушка Салли молодой,
а дело было, парни, в Луизиане…»
«А дело было у тебя по пьяни», —
заначку предпоследнюю на стол.
«Люблю ловить форель с утра, — хлебнул, —
местечко знаю». Грустно-деловитый,
костер затопчет и потрет свою
причинную бородку…
Узнаю
консервный, точь-в-точь папенькин, заводик… —
Над заводью, где удочки заводят
бродяги бородатые, заведены
не заводить ни дома, ни жены,
а лишь случайный промысел — за водку.
Любой из них — дитя, подобно мне,
седлающее деревянную лошадку,
цепляющееся за невзрослость служб,
закинувшую их в такую глушь. —
И кулаки гремят, как погремушки.
Читать дальше