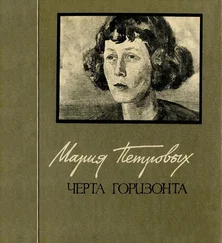И эти срубы над рекою,
и колыбели, и гроба —
все пахнет свежею смолою,
сосновый край — моя судьба.
Плывет, как лодка, узкий черный гроб,
плывет над полем, над бессмертным житом.
И женщины, и старики, и дети
хоронят сеятеля, пахаря, косца.
Хоронят без венков и без оркестра,
не произносят слов высокопарных,
газеты выйдут в свет без некролога,
и лишь колосья грустно никнут в поле.
Он сорок восемь раз посеял жито
и сорок восемь раз обмолотил.
Он сорок восемь лет кормил людей,
которых никогда в глаза не видел.
Ему никто не говорил «спасибо»,
не вспоминал за шумною беседой,
ведь имени его не знали дальше,
чем ходит плуг, коса и борона.
Хоронят сеятеля. Старики молчат.
В руках детей — поникшие ромашки,
но не заходит солнце над полями,
они привыкли вместе уходить.
Стоят леса в почетном карауле,
колодезный рыдает журавель,
и ласточки летают низко-низко
над пыльным шляхом, над высоким
житом…
Ты огня не бойся, брате,
если аист есть на хате.
Присказка
Волнуются —
куда девалась хата?
Вокруг воронки
и в золе вода.
И не клекочут утром аистята,
подняться не успели из гнезда.
По белым крыльям —
черные полоски,
так облетает траур города…
И не смолкают
горя отголоски,
не отболела в памяти беда.
Нет ни колодца,
ни любимой хаты,
ни липы на развилке трех дорог.
И кружит аист,
словно виноватый,
что старое гнездовье не берег.
Кружат, горюют —
аист, аистиха,
под ними трубы черные,
зола…
Роса с лозы стекает тихо-тихо.
Молчит Хатынь, кричат колокола!..
I
Гром катится, как с бочками подводы,
не чибис — ива свищет дотемна.
А борозда, очнувшись от дремоты,
уже не в гром, а в ливень влюблена.
Еще пустые, стынут гнезда, соты.
И даль тревогой светлою полна.
Но ни о чем не думает весна,
еще на юге все ее заботы.
В глаза посмотришь — не увидишь дна.
Холодный дым летит за огороды.
Гуляй, весна, пока еще одна.
Отяжелела рожью целина.
В гнезде птенец ликует желторотый.
Заботы от темна и до темна.
II
Грачонок машет крыльями нелепо.
Под крышею ржавеет майский плуг.
Стирает пот расхристанное лето.
От зноя в полдень глохнут лог и луг.
Как грудь косца, осмуглилась планета.
А тминный дух захватывает дух.
Где облачко, где тополиный пух?
И просинь просит у берез просвета.
Свекольный лист свернулся и пожух.
Насквозь дорога пыльная прогрета.
Гнедой уныло отгоняет мух.
Но свет очей весенних не потух.
На синих крыльях отблеска рассвета
подлеток совершает первый круг.
III
Идут круги — язями плещет Щара,
лесной криницы огневой глоток.
След листопада, будто след пожара.
В душе какой-то странный холодок.
Пустое небо крыльями обшарив,
ныряет ястреб в заросли заток.
А полночь белой молнии моток
распутала. И вновь горят Стожары.
Грустит покрытый инеем стожок,
зато спешит веселье на базары.
Стерня седеет. Настывая, ток
звенит, звенит, и вдруг блеснет ледок.
У язя сонно двигаются жабры.
Но озимь жадно тянет зябкий сок.
IV
Под слоем льда пульсирует криница,
как за двойною рамою рассвет.
Стеклянный звон рассыпала синица,
дня не дождется, а его все нет.
Реке рыбак под ивою приснится,
а рыбаку — как будто смерти нет —
зеленый дым и эхо юных лет.
Дуб заскрипел — заныла поясница.
Сугробы цепко держит бересклет.
Вороний карк на оттепель скупится.
Зима зимой, но век не без примет.
С подпругой чертыхается сосед.
И словно полоз, в небе серебрится
от реактивных самолетов след.
Бьется, вьется быстрый, легкий
Синекрылый мотылек.
Максим Богданович
Сонливый теплый плес лелеет
ленивой лилии цветок.
Как лепесток,
летит,
белеет,
вихляет
легкий
мотылек.
Все лилию зовет он в небо,
чтоб не любила
так,
до слез,
унылый, илистый, нелепый,
сомлевший,
обмелевший
плес,
где легкой ласкою ласкает
линей зеленая волна,
где серебро
малька
мелькает
и пузыри
блестят
со дна,
где вдруг захлестывало лодки,
когда на волны ливень лег.
Печальный,
легкий,
одинокий,
летает куда-то мотылек…
Читать дальше