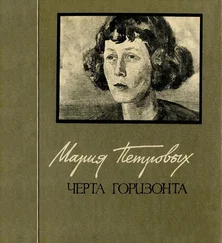4
Опять мы синим вереском
идем в любимый бор,
ведем с бездонной вечностью
безмолвный разговор.
Сосновые иголочки
горят в косе густой,
играет сполох солнечный,
как гребень золотой.
Нам весело и холодно,
помолодела кровь,
и солнечное золото
в душе смеется вновь!
«Где-то с молнией ссорится гром…»
Где-то с молнией ссорится гром,
а девчушка домой не успела
и стоит под стрехой с пареньком,
небольшенькая, зябкая, в белом…
Их тропинка кружила в лугах,
или житом дорога петляла,—
дымка счастья осталась в глазах,
в черных косах иглица застряла…
Ночь над ними висит тяжело,
кувыркаются молнии грозно —
все равно им легко и светло,
никогда им не росно, не поздно!
Здравствуй, юность… Начни — подпою!
Хорошо, что ты плащ не надела.
Хорошо, что ты в хату мою
хоть на время дождя залетела!
«Только день отсверкал за холмами…»
Только день отсверкал за холмами,
ветер жито нагнул до земли,
и гроза так плеснула крылами,
словно воды на землю пошли!
И когда отделился огромный
сколок неба с грядою берез,
бор предстал предо мной,
незнакомый,
будто только сквозь камень пророс!
«Опять дремотно ополь зазвенела…»
Опять дремотно ополь зазвенела,
на тротуарах лето заржавело.
А в синеве
над вышками,
над реками —
журавлиный реквием.
С веселой грустью опадайте, листья
забронзовелых календарных истин.
Пускай пронзит не сырость и не утлость
и осень —
юность!
За строгой чернотой депо и фабрик
в сквозном просторе
свежий запах яблок,
хотя скорбит
над вышками,
над реками —
журавлиный реквием.
Невыносим рыбацкий зуд,
слепит и жжет росинка.
Но не смолкает «ундервуд» —
трофейная машинка.
Диктуют грозы сквозь окно,
хотя свое про танки
отбарабанила давно
она в штабной землянке.
Сменила строгий стиль и лад,
изведала немало,
и жизнь и смерть под гул блокад
сурово отстучала.
Ты помнишь топкую постель,
ведь в ней друзья уснули.
Стучит машинка!
Буквы к ней летят, как наши пули.
Не надо загонять в размер
печаль болотных чаек.
И гонит летний сонм химер
войны живой печатник.
Простроченная тишина.
И стол как поле боя.
И ноет сердце дотемна,
заходится от боли!
У надгробья две ракиты
головы склонили.
Здесь две девочки убиты.
Спят в одной могиле.
Грустный камень на обрыве,
ты один — свидетель,
как оплаканы родными
в сорок третьем дети.
Люди, слушайте, смотрите,
не случится чудо.
Крик не смолкнет на граните:
«Их убил Печура!»
По какой земле гуляет
этот гад, наглея.
Даже камень проклинает
полицая-зверя!
Может, он удрал за море:
принимайте гостя.
Сколько лет седое горе
плачет на погосте:
«Ой, ракиты, не шумите,
не случится чудо.
Моих дочек не будите».
Их убил Печура.
Левый берег покатый.
Правый берег крутой.
Пахнет сеном и мятой
и вчерашней ухой.
На крутом перекате
звонко выстрелил сом.
На блестящем канате
повели мы паром.
И телегу с мешками,
и коня,
и гармонь.
Трос дрожит под руками.
Обжигает ладонь.
На паром наш пловучий
тянем берег в стогах,
тянем сонные кручи,
тянем даль в облаках.
Кто домой, кто к невесте,
кто от тещи бегом.
Рейсов сто или двести
за день сделал паром.
Весь лохматый и сонный,
вышел вечер на луг.
На канат раскаленный
с кручи глянул я вдруг —
от зари он червонный
иль нагрелся от рук?
На родину тропинка,
что нитка без узла.
Был камень у села.
Безногий бог каменьев.
Покатый, рыжеватый
валун на сотни тонн.
Куда скатился он,
где канул он бесследно?
Печалиться не надо
об этом камне, брат.
Ты столько знал утрат,
что камень тот — песчинка…
Читать дальше