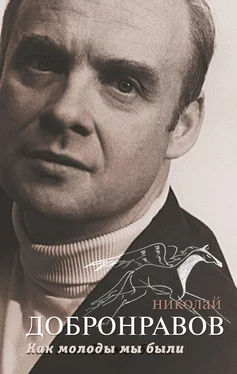…Портреты: весь класс, весь тогдашний десятый.
Есть в школьных музеях пронзительный свет.
Ребята в последний свой вечер засняты.
На стендах портрета словесника нет.
Спасибо за милость, мой ангел-хранитель,
за жизнь,
что мне доброй судьбою дана…
Вчера мне приснилось: я – школьный учитель.
Иду на уроки. И завтра – война.
Хлеб из затхлой муки пополам с отрубями
помним в горькие годы ясней, чем себя, мы.
Хлеб везли на подводе. Стыл мороз за прилавком.
Мы по карточкам хлеб забирали на завтра.
Ах, какой он был мягкий, какой был хороший!
Я ни разу не помню, чтоб хлеб был засохший…
Отчего ж он вкусней, чем сегодняшний пряник,
хлеб из затхлой муки пополам с отрубями?
Может быть, оттого, что, прощаясь, солдаты
хлеб из двери теплушки раздавали ребятам…
Все мы были равны в эти дни перед хлебом,
перед злым, почерневшим от «юнкерсов» небом,
пред истерзанной в брестских лесах обороной,
перед желтенькой, первой в семье, похоронной,
перед криком «ура» и блокадною болью,
перед пленом и смертью, перед кровью и солью.
Хлеб из затхлой муки пополам с отрубями
и солдаты и маршалы вместе рубали.
Ели, будто молясь, доедали до крошки…
Всю войну я не помню даже корки засохшей.
…За витриною хлеб вызывающе свежий.
Что ж так хочется крикнуть: «Мы все те же! Все те же!»?
Белой булки кусок кем-то под ноги брошен…
Всю войну я не помню даже корки засохшей.
Мы остались в живых. Стала легче дорога.
Мы черствеем, как хлеб, которого много.
Фуражка да с околышком…
Баланда из ботвы…
Военные осколочки —
братва из-под Москвы.
Воронки да пожарища.
А мы шагаем в класс.
И спорю я с товарищем —
где мина, где фугас?
Слова исповедальные
о бедах фронтовых.
Квартиры коммунальные.
Паек на семерых.
Ах, как вы ныне ценитесь,
военные рубли?
Буханка хлеба – семьдесят,
билет в театр – три.
С тех пор у нас не плесенью
сердца поражены —
лирическими песнями
эпической войны.
Мы труд познали смолоду.
Нам рук своих не жаль.
Сердца у нас – не золото,
осколочная сталь.
И мысли не припудрены,
и злостью сводит рот.
Занозы да зазубрины
в характерах сирот.
…Уже в поре цветения,
как майские сады,
иные поколения,
не знавшие беды.
Но памятью нетленною,
рожденные в огне,
разбросаны военные
осколки по стране.
И сердце вновь сжимается:
легко ли вам, светло,
голодные красавицы
из детства моего?
Вновь в памяти проявится,
как свет летящих птиц,
и бедность ваших платьицев,
и бледность ваших лиц.
И вот, обнявшись, снова мы
сидим, дыша едва,
и кажутся суровыми
и взгляды, и слова.
Но гордо и раскованно
о битве за Днепром
трофейный, лакированный
поет аккордеон.
Еще Отчизна бедствует,
но все пойдет на лад:
что шепчут губы детские,
то пушки говорят.
Мы слезы скрыть стараемся,
душа в беде горда.
Мы скоро распрощаемся.
Надолго. Навсегда.
Подстриженные челочки.
Косички до земли.
Военные осколочки,
родимые мои…
«Он под Минском в лесах партизанил…»
Он под Минском в лесах партизанил,
он вогнал трех эсэсовцев в гроб,
а сегодня
у сына экзамен,
и отца прошибает озноб.
Он глаза, чтоб не выдали, щурит,
нервно борт пиджака теребя,
и все курит,
все курит,
все курит,
вспоминая мальчишкой себя:
общежитье,
бурду с чечевицей,
неуютный студенческий быт…
«Раньше
легче нам было учиться», —
он себе в оправданье твердит.
«Нам за ними
теперь не угнаться,
сколько новых у них дисциплин!
так обилен поток информации!
Конкурс нынче огромный!»
А сын
убежден, что студент он де-факто
(дети нынче намного трезвей).
Старики
получают инфаркты
на экзаменах сыновей.
Во мраке с горя сгорбились мосты.
Тревожно площадей сердцебиенье…
На запад уходило ополченье —
потомственная гвардия Москвы.
Рабочие, врачи, учителя,
отставку не приняв военкоматов,
сапог не получив и автоматов,
ушли в незащищенные поля.
Кто помнит их последние слова
в последнем и решительном сраженье?
Безмолвна затемненная Москва.
Убиты летописцы ополченья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу