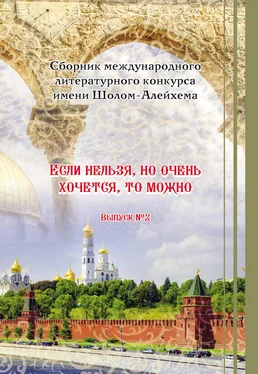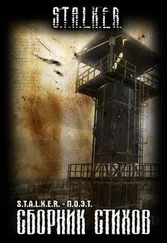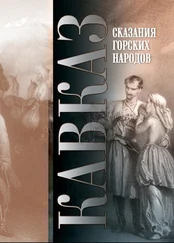– И то верно. Кто это школу будет открывать, немцы, что ли? Не трогали бы, и то ладно. Слышала, партизаны в лесу появились? – Матрёна наклонила голову к Ефросинье. – Говорят, что немцев бьют почём зря.
– Да слышала я.
– Третьего дня Магду повстречала, вот она и рассказала.
– Соседка у нас… нынче лучше не иметь таких. Ейный, Микола, теперь в полицаях.
– Мужик у Магды давно сгинул, так она из города какого-то привечает, говорит, что у немцев работает, у самого бургомистра в помощниках. А ещё сказала, – Матрёна оглянулась по сторонам, хотя поблизости никого не было, – что евреев отовсюду сгоняют в Могилёв. Поубежало много, вот сейчас ловят.
– Так у нас в селе нет же их, – удивилась Ефросинья.
– Приказ вышел, чтобы евреев, если кто увидит, немедленно выдавать властям. За это вознаграждение хорошее. А если кто спрячет, дом сожгут, а самого и расстрелять могут.
– Ой, ужасы какие. Ну, я пойду, – заторопилась Ефросинья, – малые ждут.
За окном ветер затянул заунывную песню. Закрутил снежною крупкой, словно осень, давшая фору лету, теперь брала своё. Дети давно на печь залезли, шепчутся, Ромка всё истории свои рассказывает. Учительница ещё в прошлом году говорила: «Способный сын у вас, Ефросинья Романовна, к литературе, ему бы в городе учиться надо». – «Да вот годок ещё подрастёт, отдадим в город, там у нас родственники имеются. Четырнадцать исполнится, и повезём», – ответила тогда Ефросинья.
Теперь уже и четырнадцать, а везти куда? Война. Хорошо, что муж успел дров наколоть летом, да и сама понатаскала на тележке из лесу недалёкого. Мысли о лесе сразу напомнили Ефросинье о сторожке. Завтра с утра опять идти туда надо.
Лет десять назад построил муж в лесу сторожку. Лес – кормилец. Дрова, грибы, ягоды, растения целебные – всё он даёт. Трава на полянках лесных высокая духмяная вырастает, сено из неё хорошее получается. Скосят его и на сеновал в сторожке заложат, от чужих глаз подальше. Муж так построил её в яру, что не видна со стороны глазу постороннему, деревца ветвями своими со всех сторон закрывают. Недели две назад отвела туда Бурёнку свою, от греха подальше. Зачастили в последнее время в село то полицаи, то партизаны.
Сельчане стали прятать от них припасы да живность, а корову как спрячешь? Полицаи в открытую грабят, а партизаны тот же грабёж называют большевистским словом – «экспроприация».
Теперь ходит к Бурёнке в сторожку каждый день. Подоит, порядок наведёт, навоз уберёт. Домой молоко принесёт, детей напоит, на простоквашу киснуть поставит, масло собьёт. А недавно и кур в сторожку переселила.
Утром, чуть светать начало, взвалила Ефросинья на плечи мешок с флягой для молока и отправилась в лес. Дошла до места быстро, с полчаса всего и ходу-то. С делами справилась, присела отдохнуть на лавку, да и задремала. Очнулась, день уже вовсю разгорелся, даже солнышко, найдя меж туч расщелину, брызнуло через неё лучом ярким.
Решила пройтись по лесу, грибов осенних насобирать. Отошла вроде недалёко, видит – шалаш стоит, из веток собран. Насторожилась Ефросинья: чужие люди в лесу объявились, не к добру это. Постояла за деревом, наблюдая, не появится ли кто. Но тихо было окрест. Тогда, озираясь, подобралась к шалашу. Осторожно отодвинула ветку, заглянула внутрь. На грязной подстилке, расстеленной по сосновому лапнику, лежал мальчик, одетый в лёгкую одежонку, которая уже превратилась в лохмотья. Он посмотрел на женщину и сделал движение, чтобы закрыть собою какой-то предмет. Но Ефросинья заметила – это была скрипка. «Еврей, наверное», – сразу подумала она, прежде чем рассмотрела лицо мальчугана внимательнее. В её понятии все евреи играли на скрипке, и этот музыкальный инструмент лучше всего говорил о принадлежности его хозяина к гонимому народу.
Ровесник Ромки, определила для себя, всматриваясь в худое лицо со впалыми щеками и большими миндалевидными глазами. Мальчик дрожал от холода.
Недолго думала Ефросинья, жалостливо женское сердце. Человек же, ещё день-два, и помрёт от холода и голода. Разве можно на улице ночевать в такую пору. А одежда-то у него летняя, видать, давно из дому утёк.
Подняла она мальчика, повела с собой в сторожку. Он не упирался, видно, сразу доверие почувствовал. Только скрипку к груди прижимал. Достала одежду мужнину, которая в сторожке оставалась, надела на мальчишку, потом кружку молока поставила да краюху хлеба положила, что из дома захватила. Набросился он на еду. Знала Ефросинья, что нельзя много есть с голодухи, да отобрать рука не поднялась. Потом выворачивало его так, что думала – помрёт. Но нет, лежал на лавке обессиленный, однако живой. Когда оклемался малость, спросила:
Читать дальше