Двум полушариям служу,
глазурью склоны поливаю.
А как сквозь стены прохожу,
порой, увы, не понимаю.
Но помню: истина в вине.
Виной – густая паста хроник.
На той и этой стороне
не принимаю посторонних.
Толпится, ротозействует людство.
Стенает площадь. Неуютно голому…
Я успевал проснуться до того,
как мне на плахе отрубали голову.
Закашлявшись, выуживал слова,
и, спиртом прополаскивая горло,
глядел, как мимо мчится Голова,
чужая, бритолобая, под гору.
Из преисподней раздавался стон
и полз, и рвался за глухую стену —
туда, где чей-то продолжался сон…
Казненному явившись на замену,
с похмелья, или в поисках родства
(чтоб малый сирый на земле не плакал),
то там, то сям мелькала Голова,
поверх толпы, насаженная на кол.
– Ребята-братцы, не Москва ль за нами?..
Глухой раскат смыкается в груди. Полощет ветер мраморное знамя, и в травы осыпаются вожди. Иван-дурак, Иван рубаха парень всё норовит взглянуть за городьбу. Потом шагает, взглядами ошпарен, и говорит фонарному столбу:
– В чужие дали вперившись, грассируй, блуждай лампадой в каменных дворах, но мыслящая братия России костьми белеет на семи ветрах.
Плывет по небу медная полушка над миром вдов, оставленных невест. Считает полоумная кукушка сердцебиенье сбросившего крест. Он просквозил сквозь бревна частокола. Собой заполнил этот белый свет. Коснулось сердце обмершего дола… Кукушка смолкла… Разобщился след…
Знавший Авеля бредит Каином…
Елки-елочки, ай-лю-ли!
Сколько ласточек в землю кануло,
чтобы Красный Кремль возвели!
Свечки-ласточки, выждем, выдюжим,
в Божий свет попав – в молоко.
Ведь теперь вам сквозить над Китежем,
в глубоко летать высоко.
Китеж…
Чинная старина
стеариновым кружевом пьёт луну:
это древность рода грядет со дна,
это бренность мира идёт ко дну.
Это ключ-горюч.
Это ветер – жгуч.
Это голос свыше – ледащ и глух.
Поднимись со дна!
Проломи сургуч!
О святой Руси попечалься вслух…
«Хрустнет облатка – сверчок стиха…»
Хрустнет облатка – сверчок стиха.
Дрогнут стропила ночных потуг.
Для Петуха найду пастуха.
Клюнет Петух, если взор потух.
В темечко плюнет и скажет: «Кар!
Отче, очнись – ты живешь не зря».
Солнце взлетит, как воздушный шар.
Вспыхнет у шара внутри заря.
Тотчас раздастся из гнезд «ха-ха!»,
Выйдет пастух с Петухом к Царю.
Прям на загривке у Петуха
Царь полетит понужать зарю.
Грянут над миром рубцы зарниц.
Распря рассеется, мзга и тля.
Будут стоять возле всех границ
сто пастухов моего Кремля.
Когда-нибудь
к себе
да будем строги!
В труху порублен
мыслящий камыш.
Давай,
Натоптыш,
уходи с дороги,
здесь Тамерлан прошел
и Тахтомыш!
Прости-прощай,
любимая голуба!
Про жизнь не говори,
но про Потоп.
Ведь здесь
на крыльях
огненного сруба
сошел во тьму
собака протопоп.
А мы сошли,
с ума, с лица, с экрана,
зашли за край
нечаянных небес.
Мы родилась
негаданно-нежданно,
а протопоп
воистину воскрес.
И я воскресну,
вымолю прощенье,
что б не твердил
заезжий черторыл.
Прости-прощай!
Мне это возвращенье
уже дано
на сотворенье крыл.
Глубинка России. Босяцкий приют. Здесь светлые люди по-черному пьют. Орут. Задевают друг друга плечом. Пустой разговор. Разговор ни о чем.
Костер у реки. Пребыванье в тени. Ночной дебаркадер чуть теплит огни. Нисходит к воде напряжение дня. И вдруг – словно искры – слова от огня.
«Я кто?.. Змей Горыныч, неясыть, фантом?!. Поляк и татарин, и русский при том. Живу, словно после своих похорон. Душа разбежалась на …надцать сторон. Срываюсь, скитаюсь и семьи палю. А после алкаю и ночи не сплю…»
Я замер, я вспомнил, во тьму запершись, и крови, и кров, и прошедшую жизнь. И память вращала свои зеркала: в них полнилась полночь и полая мгла…
Орущих и пьющих не мне порицать. Им жить у реки и вокруг созерцать. Копаться в себе и копаться в золе, ища справедливость на грешной земле…
А днем у причала шумел балаган заезжих кавказцев, проезжих цыган. Шла купля-продажа… Лузга-шелуха. Полуденный дым. Золотая труха.
Читать дальше
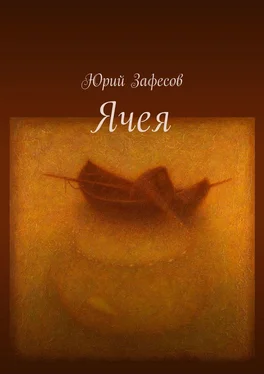




![Юрий Воищев - Детская библиотека. Том 45 [Юрий Тихонович Воищев Альберт Анатольевич Иванов]](/books/401002/yurij-voichev-detskaya-biblioteka-tom-45-yurij-tihon-thumb.webp)

