«По суху аки… Штормящий своё разумеет…»
По суху аки… Штормящий своё разумеет:
вот вам свобода, но в щепы шаланда и бот…
Тварь дребезжащая многое право имеет,
приотстранясь от иных невозможных свобод.
Они отлили из свинца златого ложного Тельца, потратившись слегка на позолоту. А золотые кирпичи, шипя, истаяли в ночи, принявшись за подпольную работу.
Измена, смута и корысть устои мира стали грызть, сквозь стены и засовы проникали. И, попустившись, Моисей, кормил с ладони карасей, щекочущих Египет плавниками.
Крупчатка манная, легка, благословляла облака, небесному причастна обмолоту – в мир ниспадала, как пыльца, то человечество с Тельца фальшивую сдирало позолоту.
Прости, любимая, но знай, я собирался на Синай, чтоб посохом явиться Моисею. Проспал беспечное дитя, тысячелетия спустя, пустыню Аравийскую просею. Отсею соль, отсею боль, ошметки вежд, обломки воль, что смыслами означатся пустыми. Когда пророка станет жаль, найду ту самую скрижаль – «Не выводи блудущих из пустыни».
Покуда шло крушенье мира,
я во все щели влез без мыла,
усатый рыжий таракан.
Не шел к больным и старикам,
и не глотал я дух распада.
Ведь старики сошли до ада:
людская, лучшая рассада
не уцелела в сшибке тел.
Я в детство к старости летел.
Преподобному
Иосифу Волоцкому
И ты пошел на звон колоколов…
И я увидел: этот звон малинов.
В тот самый миг поверх людских голов
происходила схватка исполинов.
Раскосый облак – облак Челубей
теснил к обрыву облак Пересвета.
И белый пух летейских голубей
листал страницы Ветхого Завета.
Перечисляя, кто кого родил,
дьячок гундел похмельно и надсадно.
И странный смысл в столетьях пробудил:
бойцы, сошедшись, разошлись внезапно.
И, поклонившись разом до земли,
к иным тысячелетиям примерясь,
они, обнявшись, на закат пошли
превозмогать жидовствующих ересь.
Из опрошенных
Аристотеля знают немногие.
Человек триста – из ста.
Когда затем
в России вспыхнул свет,
за всем за тем,
что шло,
казалось, прахом,
я отвечал
вопросом на ответ:
– Всем по заслугам?
А небесным птахам?
А Божьим дудкам?..
– Этих пощади! —
кричала роща
голосами века,
и чуткий филин,
ухавший в груди,
изобличал
в прохожем человека.
И вёл меня
сквозь снег и холода
навстречу
созидавшему таланту,
не дожидаясь времени,
когда
остудит ветер
Огненную Лампу.
«Жар мимолетного родства…»
Жар мимолетного родства
отведав из янтарной чаши,
чадящий светоч мастерства
блуждает в сумеречной чаще.
Подслеповато прогорев,
печальник, сумрак стерегущий,
не узнает родных дерев
лишь оттого… что тени гуще.
«Жили-были скирд да хуторок…»
Жили-были скирд да хуторок,
но затем состарились в горниле.
Мы с тобой ходили вглубь дорог.
А теперь в густом и липком иле
варим вар в неверии и зле
с каждым часом – смыслами короче.
Странный морок бродит по земле,
застилая выжженные очи.
Странный морок также одинок.
Жил как не жил – пыхнув, затихает.
А в пустых глазницах огонек
чуть забрезжив, тотчас затухает.
Се чекушка.
Суть четвертинка.
Откровенье
для чистых вен.
Жук-хитиновая скотинка,
как ты,
право,
поползновен!
Я доверье тебе внушаю,
Верещагину-щипачу.
Я лежу,
тебе не мешаю,
небо веточкой щекочу.
Кыш, одышный,
сойдешь на клейстер!
Дай мне слышать
поверх оград
как вершины
колышет ветер,
Вертер,
вешатель,
ретроград…
Три сына – трясина.
Три дочери – троеточие.
А ты – босяк, ни так ни сяк,
глотка волчья России,
троеточие трясины…
Пусть годы проносятся мимо!
Пора, брат, щетиной к звезде,
в просторном гнезде серафима
заняться резьбой по воде.
Пора выходить из метели,
пропившись на братском пиру,
в лучах золотой канители,
в сквозном изумрудном бору.
Читать дальше
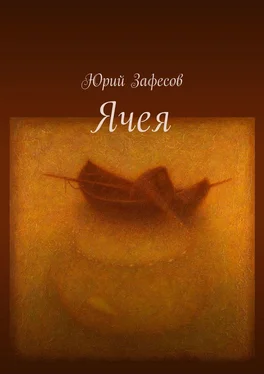




![Юрий Воищев - Детская библиотека. Том 45 [Юрий Тихонович Воищев Альберт Анатольевич Иванов]](/books/401002/yurij-voichev-detskaya-biblioteka-tom-45-yurij-tihon-thumb.webp)

