«Дед Никанор не сразу умер…»
Дед Никанор не сразу умер…
Сдавая внуку хлам и лом,
недоум и л и надоумил
ходить по кладбищу с веслом.
Мол, нерозумный дважды платит,
когда уходит в донный ил.
«А вдруг кому весла не хватит
на сотню дедовских могил?»
Дед Никанор не канул в тину,
прилег с родными заодно.
Потом построили плотину,
и кладбище ушло на дно.
Те старики уже далече…
Но сквозь ледовое стекло
все ищут правды , теплят свечи.
А внук им подает весло.
Добуду,
поскребши русского,
Тунгусский метеорит…
Похрустывает
прокрустово
а кесарево – искрит.
Огонь,
оснежённый нежностью,
вокруг наломает дров,
взорвавшись
над неизбежностью
прозренья иных миров.
Младший был дурачок.
Средний был дурачок.
Старший был дурачок.
Но об этом молчок.
Я и сам дурачок.
Рыболовный крючок
обломил, зацепившись за слово.
Оседлал поплавок,
возрыдал, аки волк.
Жалко мне червяка дождевого…
Глядь – кругом поплавки.
Все мы – дурьи башки.
Не река – разливанное море.
Далеко в синеве,
по микитки в траве
гром-телега стоит на угоре.
Сколько спиц в колесе?
Сколько плевел в овсе?
Сколько судеб
скатилось к обрыву?
Не клубись, мелюзга!
С колокольцем дуга,
запрягай Серебристую Рыбу.
Ведь телегу тянуть —
не эпоху лягнуть!..
(Ба, кобылка давно околела!)
Эх, была-не была!
Цел червяк и голавль…
Кто ж удилище – через колено?!.
«Дорогу через ров осилит отрок…»
Дорогу через ров осилит отрок
под птичий взмах
и под земной замах.
Песочные часы воздвигнут остров,
где можно жить в ушедших временах.
В небесной колбе кротко, ненастырно
всклубится Тот,
Кто заново иском.
В низинной колбе – знойная пустыня,
сухое небо, смытое песком.
Часы-весы в песок стирают камни,
пересыпая каинов в веках,
где в чашах двух
двух бездн перетеканье
трепещет на вселенских сквозняках.
«Застучит по асфальту подкова…»
Застучит по асфальту подкова,
замигают во тьме огоньки.
В ста дворах деревеньки Буньково
между грядок живут ебуньки.
Их забавы – засады и прятки.
Им не в тягость морковь прорежать.
Им не в падлу пропалывать грядки,
чтоб земле было легче рожать.
Принимай, городьба,
своего бунтаря и пострела!
Не скули под окном,
колоброда-кудлатый щенок!
Был вселенский пожар,
и на небе дыра прогорела,
раздышалась крапива
и буйно разросся чеснок.
Я допил молоко,
и, отпав от младенческой капли,
от глухого оврага
до гулкого края добрел.
С неба падали птицы:
болотные серые цапли,
белохвосты-орланы,
Имперский Двуглавый Орел.
Был Он порван повдоль.
Были сталью иззубрены шпоры.
Я шепнул, устрашась:
«Перед смертью мы разве равны?».
Он ответил тревожно:
«Разломаны реки и горы».
Я расслышал его —
«не летается в две стороны».
Я услышал : «Добей!
Не могу отвечать за безмолвье,
за мигающий омут,
Медведица где на плаву»…
Я ответил: «Прости
за терпенье, любовь и беззлобье».
И лопатой срубил,
что на Запад глядела, главу.
Отразилась дыра,
плесканулась
в запекшейся луже,
и пригрезилось мне,
что я знаю свою колею:
над Россией круги
были, помнится, у же и т у же,
и шаги Звонаря
восходили к забытым в раю.
Я Орла накормил,
обескровил ядро и дробину,
сбрызнув мертвой водой,
и живой, что мерцала на дне.
И Орел воспарил.
Белый свет завязал в пуповину.
Очень прочным узлом.
Этот узел сошелся на мне.
«Немноги единороги…» —
скажу себе за глаза.
То бросится бес под ноги.
То уд оплетет лоза.
То сон повторится дважды.
То губы вопьются в дых.
Чуть позже
в пустынях жажды
споткнется верблюд-кадык.
Припомнит свою породу,
оплавит гортань смолой —
нырнёт плавником под воду,
пырнёт бирюзовый слой…
Волна залатает рану…
А я, на печали скуп,
седым океаном стану
и солью истаю с губ.
…Немноги единороги.
Пасутся среди небес,
бредущие без дороги
сквозь облачный
влажный лес,
в бреду ли,
в слепом дозоре
(где страждущий – окаян),
испив наизнанку море,
сверзаются в океан.
Читать дальше
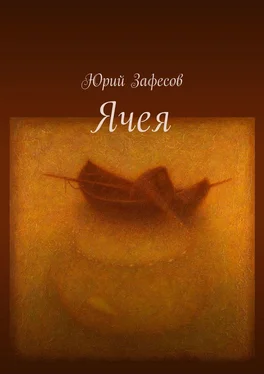




![Юрий Воищев - Детская библиотека. Том 45 [Юрий Тихонович Воищев Альберт Анатольевич Иванов]](/books/401002/yurij-voichev-detskaya-biblioteka-tom-45-yurij-tihon-thumb.webp)

