и оборачивается бедой.
Глаза в глаза.
Глаза – безумны.
О том, как встретились с тобой
тем памятным прозрачным утром,
когда рождается беда.
(Я говорю не из суеверья.)
– Мы будем вместе! – никогда!
…О, обретение потери!
Май колдовал.
Волшебным светом
пронизан мир и рассечён
не плоскую развёрстку света
и долгих зимних вечеров.
Май ворожил.
Всё – ликованье
цветов, и трав, и пустоты,
сосущей птахи щебетанье.
Великолепье остроты
чистейших звуков, осязанья.
И зренья утомлённый нерв
горит в потоке мирозданья
огнём несущихся комет —
все прочь с дороги!
Май неистов
в своей гульбе и ворожбе.
Но в золотых прожилках листьев
все травы преданы земле.
Май светозарен, безысходен,
и кроме нет иных тенет,
чем свет, который ввысь восходит
над самой лучшей из планет.
Жарких дней золотистая пряжа…
Погрузиться в нагретый песок;
в эту землю войти; в ней растаять —
и взойти непонятным ростком.
…И роман позабыт на скамейке.
Звук шагов в отдалении. Смех.
Да по старым заглохшим аллеям
распустившийся липовый цвет.
Тюльпанов алость отзвучала.
но подсказала память мне
цветов тревожащее пламя,
что всколыхнулось в вышине.
Иноязычные слова…
на блёкло-мраморной лазури
прожилки тонкие рыжели —
чужих созвездий письмена.
5. Безлунная звёздная ночь
Это будет на уровне боли,
что блаженство и вечный покой
в нас вольёт. И поверю я в Бога
всей земной неизбытной тоской.
И я поняла, что тоскую.
О время же! щедрой рукой
забвения меру глухую
отсыпь мне. Верни мой покой.
И эта боль остра.
Как в первый день творенья,
востока лучезарно оперенье
и в росах стынет ясная трава.
Там, у слияния двух лун,
на пятачке
сиянье глаз, свеченье скул.
на волоске
повисла без движенья даль,
поник простор.
на цыпочки поднявшись, встал
под небосклон
едва забрезживший рассвет.
В мазках зари
всё – слух, и зрение, и вздох.
не говори.
Как первозданный мир открыт! —
Сиянье. Свет.
Здесь корень знания зарыт.
а в нём – ответ.
Как изумительна лиловая сирень
в японской с иероглифами вазе!
Меня преследуют две-три случайных фразы
и нарушают сладостную лень, —
так, ерунда. Несозданный мотив,
забытый ритм. Певуч мой мир условный.
Я всё ищу единственное слово
для, в общем-то, ненужной мне строки,
которою измучиться дано.
В печально-чётком солнечном сплетеньи
любуется чуть влажною сиренью
раскрывшееся майское окно.
«Вот и солнце погасло совсем…»
Вот и солнце погасло совсем.
Вас раздавит, мой друг, одиночество.
Ваш гортанный неласковый смех
я увижу сквозь долгие ночи
сладких снов. Ах, нескоро зима
легковесных снегов каруселью
нас потешит. А вёсны звенят
нехорошим каким-то весельем.
Одиночество мне не грозит.
Пусть снега мнятся белой сиренью.
Чем весенняя сказка грустней,
тем зима помянётся скорее.
В лютый холод на жалобы скуп
старый дом, возведённый Растрелли
для услады господ. Тёмных лун
в ожерельи визгливых метелей,
звонких вьюг леденеют следы…
И приснится ж весеннею ночью
в тонкий свет непонятной звезды
обрамлённое одиночество.
«Имя твоё каплет мёдом сквозь соты губ…»
Имя твоё каплет мёдом сквозь соты губ;
имя твоё – у грядущих галактик излук;
имя твоё – птицы подстреленной стон;
имя твоё в одеяньи земных веков.
Но в потоке разлук
не различает мой тонущий слух
голос, слова – это смыто давно.
Неизбытно одно
имя твоё.
Судьба, оставь меня;
звезда, зайди…
Вот розовощёкие дети —
совсем крохотные звёздочки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
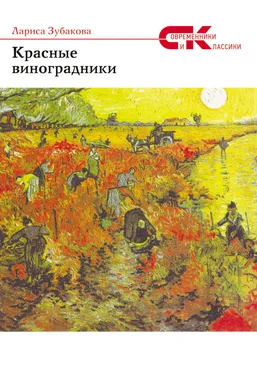




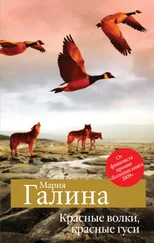
![Игорь Маранин - …и тогда снег покрыл виноградники [СИ]](/books/394434/igor-maranin-i-togda-sneg-pokryl-vinogradniki-s-thumb.webp)





