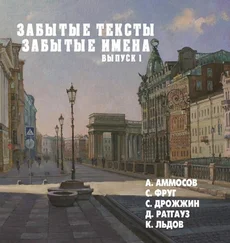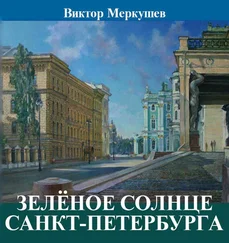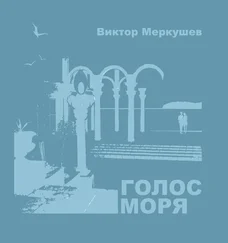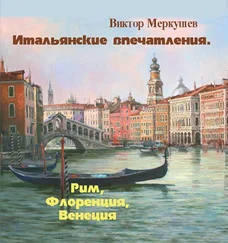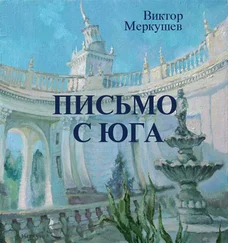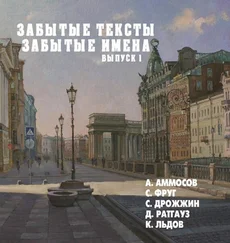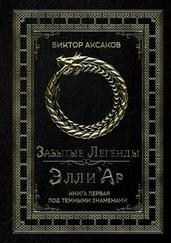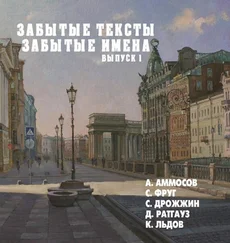«“Нынче время переходное!”…»
«Нынче время переходное!» –
Просветители твердят.
Мне уж это слово модное
Надоело, виноват!
В слове мало утешения,
Слово – звук; вопрос не в том!
Пусть их просто, без зазрения,
Скажут вслух: «Куда идём?»
Переходят между розами,
Переходят и пустырь,
Переходят, под угрозами,
И на каторгу в Сибирь!
Долго ль, други, пустозвонные
Будут тешить вас слова?
Скоро ль в вас, неугомонные,
Будет мыслить голова?
Отсталыми, запоздалыми
Величаете вы нас;
Лучше было бы с бывалыми
Посоветоваться раз!
Вот как будем с переходами
Мы без хлеба – что тогда?..
Перед умными народами
Будет стыдно, господа!
«Ты жалко, бедное растенье! –
Сказал Фиалке Плющ, надменный высотой. –
Удел твой – жить в тени; что ждёт тебя?
– Забвенье!
Ты с самой низкою равняешься травой.
Какая разница со мной!
Смотри, как я вкруг дуба вьюся; Смотри, как вместе с ним я к облакам
взношуся!»
– «Пожалуй, не жалей! – Фиалочка
в ответ. –
Высок ты, спору нет;
Но я сама собой держуся».
Вы, профаны, нам дивитесь,
Говорите: «Как остро!»
Но одумайтесь, всмотритесь,
Вы увидите: перо,
Не спросясь совсем рассудка,
Разместило так слова,
Что вот этак – вышла шутка,
А вот так – и мысль едва!
Что подняло смех ваш шумный,
Ключ к тому искусством дан, –
Часто вместо мысли умной
Тут оптический обман!
Как пернатые рассвета
Ждут, чтоб песни начинать,
Так и ты в руках поэта,
Лира – песен благодать!
Ты безмолвствуешь, доколе
Мрак и холод на земле,
Любишь песни ты на воле,
В свете солнца, не во мгле!
«Что вы песен не поёте?» –
Вопрошает Вавилон.
«Как нам петь? Вы нас гнетёте,
Ваша воля – нам закон!
Где у нас скрижаль Сиона,
Богом писанный глагол?
Песен нет, где нет закона,
Где единый произвол!»
Когда талант с фортуной в споре, –
Тот скуп, та хочет наградить, –
Одна лишь слава в сём раздоре
Права их может согласить!
Она совсем без вероломства
Вот как решает дело тут:
Доходит имя до потомства,
А сочиненья – не дойдут.
Солнце скрылось; идут тучи;
Прах взвился под небеса;
Зароптал ручей гремучий;
Лес завыл: идёт гроза!
Так дано тебе, сын праха,
Зреть, что будет, в том, что есть,
В чувстве радости и страха
Буквы тайные прочесть!
Отчего ж, когда темнеет
Мира внутреннего луч,
Тягость сердцем овладеет
И душа мрачнее туч –
Отчего тогда, сын персти,
Ты не скажешь: будет гром!
Не затворишь чувств отверстий
И не внидешь сердца в дом?..
Мир есть символ! Тот, чьё око
Не болит и не темно,
В настоящем зрит глубоко,
Что в грядущем суждено!
Калиф однажды видел сон:
Ему казалось, будто он
На дно спустился ада,
Где всякому – своя награда!
Там был в огне Дервиш; а рядом с ним Калиф!
«За что такие вам мученья?» –
Спросил во-первых он апостола смиренья.
«Я был, – он отвечал, – как царь
властолюбив!»
«А ты?» – ко предку он со вздохом обратился.
«Я… бросил мой народ и как дервиш молился!»
Эпиграмма на П. А. Вяземского и А. С. Грибоедова
Вот брату и сестре законный аттестат:
Их проза тяжела, их остроты не остры;
А вот и авторам: им Аполлон не брат.
И музы им не сёстры.
Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах,
Бормочет нам растянутый псалом:
Поэт Фита, не становись Фертом!
Дьячок Фита, ты Ижица в поэтах!
Вообще-то нас справедливо можно упрекнуть в том, что в список забытых литераторов, удостоившихся эпиграмм Пушкина, попал Фёдор Николаевич Глинка. Всё-таки это имя ещё на слуху, пусть даже по далёким от литературы причинам. Мы помним его причастность к декабристскому движению, и дружество с Пушкиным, и его подвижнический труд на ниве благотворительности… Только стихов его мы почти не помним. Ещё в начале сороковых годов девятнадцатого века Виссарион Белинский так писал о Глинке: «…Поэтов на Руси явилось столько, что Ф. Н. Глинка совершенно потерялся в их густой толпе».

Ф. Н. Глинка Гравюра на стали художника К. Я. Афанасьева
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
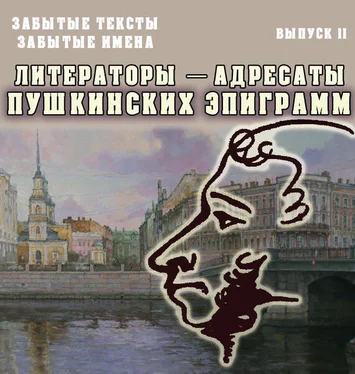

![Джером Биксби - Забытые имена [антология]](/books/26262/dzherom-biksbi-zabytye-imena-antologiya-thumb.webp)