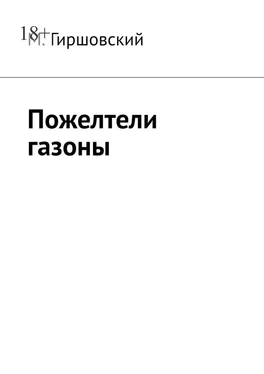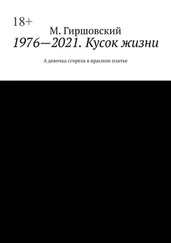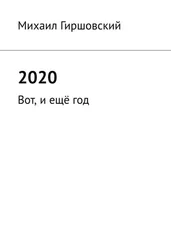«Дыхание и стук качаются по сходням…»
Дыхание и стук качаются по сходням
По-над водой сияния и блеска
Вчера опять продолжилось сегодня
И завтра точно из того же места.
Здесь без нокдауна и водки грогги
Шибает ночью по мозгам и листьям
Жив дебаркадер на воде и Волге
Качается течением и мыслью.
Здесь вечный свет настоян в раме ночи
Движение полощется в тумане
Дыши сейчас
Нет ничего короче
Удара пульса
Хоть бы и по пьяни.
Жизнь времени займет не много.
Родился, в школу и – вперёд
По общей нам дороге к Богу,
Хоть чудится – наоборот
К себе. Жизнь времени займёт
Немного и не отдаст,
Не жди – пропьёт,
тебе оставив склейку ласт.
Жизнь времени займет немного
Времени, и вечность – вот она,
Шагни, да и шагать-то, строго
Сказать, не надо, – просто вспрянь от сна.
Хоть на мгновенье врЕмени
Не временИ. Не то – опять стена.
День бесконечен вдоль и поперек
и в глубину, и в высоту, и в стороны.
Здесь рухнешь, побежавший со всех ног,
и здесь же вспрял, расправив крылья вороном.
И никогда – что «никогда»? – не встретиться
в одном пространстве тем, кто слитен и един.
И день, в котором час незримо дольше месяца
опять врастает нашу плоть в и-цзин.
Здесь перемены неподвижных символов.
Здесь смерть мне шепчет с левого плеча.
Здесь вдох улыбки, тронешь – щекотно.
День – динь-дон-дон весь в рыжих лилиях.
Здесь глубины коснись – тепла и горяча.
Здесь огнь и влага сна основ.
«Ах, как хочется, до ущемления вдоха…»
Ах, как хочется, до ущемления вдоха,
сочинить со смыслом чего-нибудь.
Бьётся, бьётся в клетке пройдоха
из желаний и крови сотканный.
Ах, не слышат слова этих мыслей,
гул их строит невнятный и строгий.
A малыш твой снова описался —
пеленай, папаша убогий.
Снова тьма и сороков сороки
ненормальных «я» толпой давятся,
а прорвется один упоротый —
ухмыльнется назад: «Bот так-то!»
Как хотелось сказать что-то умное!
Господи, толпа моя, не все же тупее обуха?
Может же кто-то промолвить слово чудное?
А гудит, гудит этот гул и всё ему просто по. ую.
«Далеко-далёко Труба Ерихонская…»
Далеко-далёко Труба Ерихонская,
а слышна, костью черепа резонирует,
по пыли и асфальту топом топает,
35 по Цельсию, осень, миру мир.
В тишине, в пустоте, в памяти
влажный поцелуй и (якорем – «тает»),
но не тает – пронзает – не уйти!
Бабочкой к листу немое: «дай»,
a не понимает никто той нужды.
Растопырив глаза – синь и даль,
Обитаешь, а места-то нет, не жди, —
Только звуком пульсирует эта сталь,
эта медь, кожа, дерево, воздух внутри,
что стоит вибрируя, разрывая мир
черепной коробки, глины, из которой старик,
и ребенок, и встречный с тобой говорит.
Кто же дует в мундштук той трубы?
Гений жёг, гений жёг,
Гений человека сжёг.
Мог ведь трактором рулить
Или даже лес валить,
А сбежать от Гения не смог.
А я сумел, как тот пострел,
Сквозь воду, известняк и мел
Прорвался-проломился,
На гения в пролом смотрел
И слушал,
И не удивился.
«Он человеком стал другим, не зная для чего…»
Он человеком стал другим, не зная для чего
Тоска о том, каким он был, замучила его
ан нет пути по морю вспять
кильватер за кормой
смотри да плачь, а не вскопать
воды пока живой
тогда он умер
думал что
теперь опять такой
но слава богу
он —
не он
а он —
совсем другой
«Я из подростка вырос недалёко…»
Я из подростка вырос недалёко
Да и младенец тоже здесь же
Пульсирует кругами смотрит око
И пульс не чаще и не реже
Кто? Я? Мне? Пенсия в Америке?
Кто? Я? Стихи? За рядом ряд?
Кто? Я? Всё? О бордюре и поребрике?
Кто? Я? Здесь? В синеве тяжелый взгляд?
Единство бесконечно в точке пульса
Соитие сливает мир в одно
Таинственно как имя Дульси-
нея Тобосская.
Чьи слёзы я плачу? —
Не знаю,
Чьё горе вопит из меня?
Как папа, я в голос рыдаю,
Как бабушка, слёзы глотаю,
Людские слова забываю,
По-волчьи на небо взвываю,
оооооо-оооо-лайААА!
Читать дальше