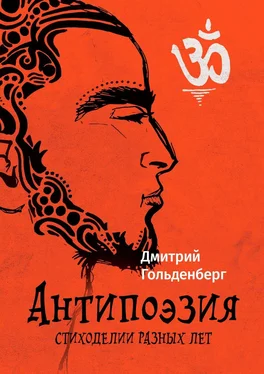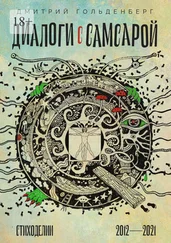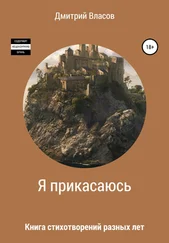Друг мой, вот моё сердце, вот мой животрепещущий пульс.
Вот моя каббалистическая ракета, радость моя, мой серый, в яблоках, гнусь.
Тошнит, господа.
Наблевавши в пепельницу, растерянно моргаю мокрыми ресницами.
Саднит на душе и в местах поободранных заусениц.
И вот, уползаю из бара, словно печально известная офицерская вдова,
Которая сама себя изнасиловала и высекла.
Тошнит, господа, тошнит.
Тело бренное тащится сквозь чехарду зим и лет,
Свой скелет завернувши в давненько не стиранное одеяло…
Юные трубадуры, слагающие новые песни о Нибелунгах,
Я люблю вас и ненавижу.
Мы ввергнуты в мир: смертности, конечности, времени
И всепожирающих поисков: смысла, любви, откровений.
Нам намекают: прими всё, как есть – и ты будешь счастлив.
Очередная уловка рекламщиков?
На стекле, испещрённом дождём, проступает таинственное «ЁКЛМН».
Тошнота, маета, немота.
Эра плотничества – питаться подножным кормом.
И подкожное «мать-перемать» перемалывает внутри всю и всякую слабость.
Ницшеанский сверхчеловече,
Укомплектованный сердцем из стали и членом из золота,
Вышел на рынок, управляемый принципами взаимоотношений свободных агентов…
Любовь моя, уедем в Гонолулу,
Где много лет мы будем жить, забыв себя.
Любовь моя, любовь подобна стулу
Венскому, чью спинку нервно теребя.
Галоши мокрые – поставишь в угол,
Как ставит в угол шкодника монах.
Мы – вóроны средь огородных пугал
С ключами детородными в штанах.
Да вот беда, как грится, бес попутал.
И – бес в ребро, и – перья под ребро.
Промозглый дождь деревья в мох укутал,
По мостовой рассыпал града серебро.
Когда б не мой кафтан, дырявый, чинный,
Когда б не сумасшедшинка в глазах,
Моё перо и ножик перочинный
Оставили бы вещи на местах.
А так – трепещут на ветру предметы,
Мокры дождём и в волглый мох одеты.
И всуе тщусь я, тарахтя трещоткой,
С предметов мох содрать ротационной щеткой.
Идея дала толчок слову, глаз породил слезу.
Из слова вылезли: Ветер, Огонь, Воздух, Вода.
Воде – быть зеркалом, чтобы отразить бревно в Верховном Глазу,
Когда из небесной сферы дождём колесниц низвергнется Золотая Орда.
Воздуху – быть средством передвижения слова и пищей огню,
Огню – давать нам очаг и тепло, ветру – играть с огнём.
(Так на пленэре играет в любовь и серсо инженер с невинною инженю —
Кровь, напоённая юным французским вином, резво играет и в ней, и в нём).
Вкривь, вкось пошёл гвоздь вопроса, вбиваемый в стену молчания.
Громкоговорители призывали нас к водным процедурам и скидкам на барахло.
А девушке бледной всё рисовались картины предрождественского венчания,
Пока в её лёгкие белым дымом из трубки перекочёвывало стекло.
Глеб Егорыч Жеглов украденный у женщины кошелёк
Засунул в карман пойманного карманника.
Королева Латифа совершила беспосадочный перелёт
Из Страны Чудес на Землю Санникова.
Наделён просветленьем, скопец голосил, что есть мóчи.
Постмодернистские поэты переглядывались и подмигивали друг другу.
Ницце и Токио они несомненно предпочитали Сухуми и Сочи,
Канберре и Рио – предпочитали Ригу и Лугу.
Элитарностью своей вялотекущей шизофрении
Кичился Дон Педро, раскачиваясь на маятнике Фуко.
«Всякая демократия требует периодических инъекций определённой дозы целенаправленной тирании», —
Пришла в субботу вечером к выводу умная девочка по имени Сулико.
Стража забе́гала по дворцу: исчез алмаз из фельдмаршальского жезла.
Алмаз унёс очаровательный юноша по имени Гоша —
Русский голубоглазый аналог Гавроша,
Довольствующийся кражами за неимением баррикад.
Зависимость означающего от означаемого тоже исчезла,
Рухнула на пол, как сброшенная с плеч тяжёлая ноша.
Артефакт и контекст подружились, как валенок и галоша —
И жизнь превратилась в один нескончаемый бал-маскарад.
Сизиф, катящий камень в гору, с вершины слетает свободным орлом.
Орёл, хватающий гремучую змею, обращается рисунком на банкноте.
Банкнота тонет в денежных мешках казино и публичных домов.
Сильнее, сильнее. Вытри слёзы, проглоти в горле ком.
Читать дальше