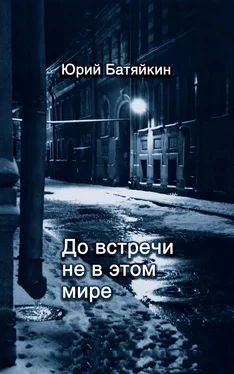«Все явственней я старею, все меньше мне остается…»
Все явственней я старею, все меньше мне остается.
Мне жить, как живут другие, на свете не удается:
и сердце ноет печальней, и воет ветер прощальней
на лампу мою из мрака, как знающая собака.
Какое мне все чужое! Какие мне все чужие!
Мне будто и стены шепчут: пожитки свои сложи и
беги, пока есть минута, пока еще не решили,
пока они не добрались, пока тебя не убили.
Мгновенья бегут, недели. Прошло Рождество, Крещеньем
повеяло. Жизнь все медлит, как улица с освещеньем:
находит себе причины, вселяет в тебя сомненья,
а после тебе приносит ненужные извиненья.
Так стоит ли суетиться? Достойно ли волноваться?
Никто на земле не знает, бежать или оставаться,
и сколькие под чужими дверями стоят с обедней,
кривою спиною слыша: ни первый ты, ни последний.
Я, право, не осуждаю, я тоже не правил строгих,
Я даже не утверждаю: еб…л я вас всех, двуногих…
Я просто, увы, старею. Как дерево, как картина.
И скоро мой шарм оценит прекрасная синьорина.
А я живу не как надо. Печалюсь, горю неярко.
Не уважаю стадо. Плюю свысока на бедность.
Я удаляюсь в вечность, словно в аллею парка,
бегущую в неизвестность.
На улице отдыхают. Взрывают назло шутихи.
Что три часа ночи, православных не беспокоит.
Будь здесь океан, я бы срубил Кон-Тики.
Но здесь 30 ниже нуля, и воет
вьюга. Заснуть уже не удастся.
Но сдохнуть можно в любое время.
Моя главная роль – подбирать за всеми.
В остальное время – ругаться.
Я тоже мечтал о счастье.
Держал в объятьях девочку с темными волосами.
Но этот мяч забил далеко Агасси.
Хотя я чего-то жду еще под часами.
«Я, как грустный дом, обречен на слом…»
Я, как грустный дом, обречен на слом.
С юных лет усмешка мой вид кривит.
Пообтершись между добром и злом,
я от них обоих теперь привит.
Мною рок всегда вертел, как хотел:
я мечтал убежать, но не убежал,
и желал улететь, и не улетел —
только всех перепровожал.
И поэтому я окопался здесь,
где печалится слякоть, и меркнет свет,
где, чем быдлу доказывать, что ты есть,
самому себе легче внушить, что нет.
«Я расстаюсь с этим миром. Сто…»
Я расстаюсь с этим миром. Сто
столетий пройдет, а он будет такой же.
И все начнут говорить: а что?
Кто сказал, что мир спасет красота,
не понял в ней ни черта.
Стой же,
Ноябрь. Когда-то я был влюблен.
Жаль, что тогда я не видел того, что ближе,
Ступая кроссовками «Саломон»
По петербургской жиже.
Теперь иная печаль:
до смерти расставаться жаль
с лучшим моим дружком —
Ночным Снежком.
«Ах, как снега пушистого нынче много!..»
Ах, как снега пушистого нынче много!
Будто ваты на елке, и остального,
словно нет, и самому не видно,
как твоя очевидность неочевидна.
Хорошо убраться назло досадам
с февралем, с разошедшимся снегопадом,
позабыв, наконец, про свои невзгоды,
про печали, заботы, тревоги, годы.
Позабыть навсегда о своих свиданьях,
о своих ожиданьях и опозданьях,
о своих любимых и нелюбимых —
о своих ошибках непоправимых.
Вообще – исчезнуть с последним снегом,
заодно с опустевшим своим ковчегом,
позабыв о тепле, о весне, о лете:
обо всем, обо всем, обо всем на свете.
Никому не хочу я петь.
Разорвав, наконец-то, сеть,
я плыву не туда, куда
все. Сверкает кругом «вода».
Этот мир сочинил урод.
Все здесь нужно наоборот
понимать. Но теперь я «пас» —
обойдется кретинский класс,
и стихи, что слагались в знак,
пусть летят кто куда, кто как…
Что добавить к сему? Ни здесь,
ни на небе еще не весь
спектр познанья, что мне смешны
юбилеи и дурней сны.
А уж если и жалко кого – травы
да дегенератской молвы.
И иду я в густой толпе,
как в лесу по глухой тропе,
презирая сверканье звезд,
ненавидя бессилье слез,
лишь свое про себя шепча,
будто гаснущая свеча.
«С неких пор я все чаще…»
С неких пор я все чаще
с завидным упрямством куклы,
словно в мусорный ящик,
бросаю в почтовый буквы
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу