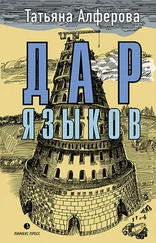и разум суетой-фатой завешен,
а он – мой Бог – он сам на все ответ,
он жребий золотой,
он вечно молодой;
не то страшит, что даже не порвет
делосский плащ, ни ремешок сандалии, —
ему не надо никуда вперед,
ему и так заранее все дали,
он, как клеймо гравера на медали,
и вне изображения живет;
он вне, а я – внутри
пускаю пузыри.
А то, что сладко наших дев тревожит,
меня обяжет только и стреножит —
я смертного в мужья себе хочу:
чтоб на меня кричал несправедливо,
чтобы в саду за розами – крапива,
но вместе ткать супружества парчу
и, ошибившись, выть.
И равной быть.
Ну вот и старость. Сырость. Кризис.
На месте розы – катехизис.
Знак полнолуния всегда в твоих ночах,
но сам цветок, цветок луны, зачах.
Вы были вместе до обидного недолго,
где рыжею волной вздымалась холка
меж синих волн в барашки завитых.
Он нес тебя по лугу и – бултых —
в соленой бездне оказался вскоре,
и ты в нем утонула, словно в море.
Но он исчез, едва ступил на берег,
упреков убегая и истерик.
Тебя трясло: чума, костры и войны,
а прошлое уж поросло травой, но
все верила – вернется он на луг,
возлюбленный твой, бог, чужой супруг.
Но время вышло. Старость. Сырость.
В волнах печаль и в небе сирость.
Твоя мечта по-прежнему проста,
в сквозном Акрополе наивно заперта:
унылую ночами чуя муку,
ты тянешь иссыхающую руку,
надеясь жесткую нащупать шерсть быка.
И розовеет дряхлая рука.
«И этот, с копьем в деснице…»
И этот, с копьем в деснице,
и тот, кто закружит свод…
(Синица моя, синица,
спасение не придет.)
Сдвигаются, грохнув, сферы,
раскручиваются миры
(что выдох – крылышком серым,
полет – скупые дворы).
И этот, и тот – крылаты.
Художник впадает в раж.
Синица моя, куда ты!
В свинцовом оплете витраж.
Покуда орган бушует
и хор невпопад гремит,
пускай белошвейка в шубу
упрячет огонь ланит,
очнется – крупа в кармане…
– Где птички? Какой мороз!..
И этот, с копьем, обманет,
и змей распрямится в рост.
Я вышла из вагона электрички.
Филонил дождь: смеркалось еле-еле,
но грузно плюхала усталость в теле
по неизбывной воровской привычке.
Сомкнулись двери с визгом за спиной,
блеснула окон тусклая слюда,
закатный луч минуя стороной,
и электричка тронулась туда,
где Ева рыжая гранат срывает с древа
и луч косой бьет в окна справа.
Слева
волна нагая шепчет: «Ну же, Ева!» —
и вторит ей тревожная олива.
Там пастухи ведут овец по склону,
не различимых с облаком совсем,
и Бог, смеясь, звонит по телефону —
напомнить: ужин будет ровно в семь.
Там на ромашке чаек день гадает,
где будет выстроена новая столица,
и гладь морскую меряют годами,
а первая гора еще дымится.
Там пахнет свежей горечью миндаль,
там склевывают рыбы сердолик,
и путь во все концы равновелик
и кратен мере «даль».
Тот мир зеленый, золотой догнать возможно,
пусть станция моя глядит уныло
и прячет луч косой за тучи в ножны:
вот телефон. Но я не позвонила.
Нет, вспоминается не вилла Адриана,
а черепаха в глохнущем пруду
и мак, алеющий, как скомканная рана,
в развалинах, у Рима на виду,
где не укусят Истины уста [6]:
рука туриста на их зуб – чиста.
Поводит клювом молча черепаха,
и глохнет вспышкой камера от страха;
турист заснять пытается века,
но не дрожит – никак! – его рука:
без трепета в античность не войти,
а по жаре – где трепета найти
(седых олив недвижная листва
уже до опыта, до осени мертва)?
Там гид толпе живописует термы,
нанизывая Рим на голый термин,
ленивый слух пасется вкруг пруда:
вода в жару милей, чем города;
из рук испить в отсутствие посуды
у первых христиан, среди теней…
И тень мелькнет, несчастная, Иуды,
и кто-то устремляется за ней…
Сок виноградный под смуглой стопой италийской
брызнет из круглого чана, и ягоды всхлипнут:
путь через лето и море до нёба неблизкий,
крошится время быстрей, чем античные плиты.
Были же грозди янтарно-прозрачные, сладко-,
были и терпкие синие, мелко-тугие…
Дни эти – ягоды – в памяти плотной закладка,
что ж открываешь все чаще страницы другие?
Зреет вино – праязык наш коснеющий общий,
нимфы на нем вне времен о любви лепетали…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу