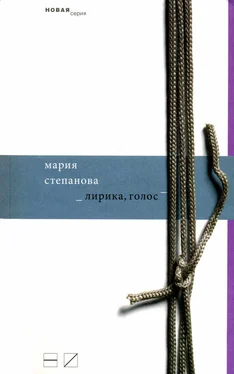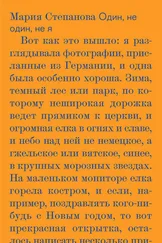Люди ушли в халаты.
Ложки вошли в салаты.
Звери, водя руками,
Дремлют половиками.
Я на пустом балконе
Вою, как молодуха,
Как во пустом флаконе
С тенью былого духа.
А еще гремучи-бегучи
Воды городского дождя
Огибают мусорны кучи,
Навсегда в асфальт уходя.
И над ними вечер-суббота
Шире, чем в иные года.
Погоди, моя ты свобода,
Безразмер-на-я слобода.
У меня в голове
На продавленной траве
Город Эм, город лже,—
Как машина в гараже.
Таганка,
На хвост консервная банка,
Голуби, голубятники, козла забивают козлятники,
От праздничного пузыря
Идут по домам слесаря.
Метро Колхозная
Давно бесхозное,
Яицо надбитое, лицо без речей,
Расширяет площади, просит кирпичей.
Площадь Трубная, злая, бухая, трупная.
Маяковка ясная, как подковка.
Вот и Пятницкая, голая, как привратницкая,
Поварская, теплая, как людская.
А при тебе, Покровка,
Мне и дохнуть неловко.
Слишком приютен садик Милютин
(С бывшим фонтаном – бил мимо рта нам),
Страшен и розов скверик Морозов
С бывшим каштаном широкоштанным.
Открывай ворота, расстилай кровать,
Вынимаю музыку – будем танцевать!
Мой, мой огород —
Все растет наоборот!
Точка, точка, тире,
Вузовский, Хохловской —
В развеселом дворе
С вывеской столовской.
На первое суп, суп, во второе круп, круп,
И язык дрожит, как стрелка, поперек соленых губ.
А в Банном переулке
Давно не видно бань.
А в Банном переулке
До света баю-бай.
И, простодушный как ангелок,
Несмысленный шар воздушный
Лезет под потолок.
«Тополиный пух наберет крыло и давай в зенит…»
Тополиный пух наберет крыло и давай в зенит,
Нарастит когтей – и карабкаться в вертикаль.
Он ворона вороной, но в ухе его звенит,
Как будильник, обезумевший нахтигаль.
А еще самолет-самоед набирает лет.
Очевидны ему облаков твоих вороха,
Под крылом его – виноградом отвесный лед
И приморская степь не менее лопуха.
Выбираешь точку – ставь перпендикуляр,
Под высокие вольты, словно монтер, залазь —
Хорошо ли гудит чугун и сидит школяр,
Пробивается завязь, наживку берет язь?
Далеко в поднебесье ноге говорит нога:
Послужили с тобой – и отправлены на юга.
А еще повыше рука говорит руке:
Подержи мои пальцы в своем ледяном мешке.
А над ними, ухо и ухо соединя,
Заслоняет лицо улыбка седьмого дня.
Такою ли меня ожидала мать,
И прадеды, и прабабки, и вся родня?
Едва голова научится понимать,
Она обернется к ним помимо меня.
Ты утло, утро рожденья, безлюдный стол,
Скатерка, сыр, и видит уснувший сын:
Родные мои стоят надо мной как стон,
Не мною, а их обедом он будет сыт.
Я влага, какую род и нальет, и пьет,
Двусложный его безмасленный бутерброд,
И если ты уйдешь, отирая рот,
Ты будешь прав, – у меня не осталось прав.
Но праздник – вот, без имени, как шпион,
Он щелк да щелк, не хочет уйти к себе,
Пока растет на воздушных дрожжах пион
И я за дверью пою в водяном столбе.
А я при своих пою в огне водяном,
Что поле зрения стало Бородином,
Зеленым флагом внутреннего сгорания.
Июнь, июнь; бывало и ранее.
«Вот возьму да и не буду…»
Вот возьму да и не буду
Я сейчас писать стихи.
Вот возьму да и не стану
Ни за что стихи писать.
Я не Дмитрий Алексаныч,
Дмитрий Алексаныч умер,
Я не Александр Сергеич,
Александр Сергеич жив.
При лице литературы
Вроде я колоратуры,
Вроде я фиоритуры —
Волос-голос-завиток,
Электрический фонарик,
Быстрый и неровный ток.
Дух сирени как подсвешник,
Над которым я сгораю —
Дух табашный, шелк рубашный,
Тело, видевшее вид —
Так бельишко, что стираю,
Прохудиться норовит.
(Птица кличет: тыц! тыц!
А еще: не спи, не спи!
В ближнем небе много птиц
На невидимой цепи.)
Я семейная программа,
Ускоряющая ход,
Круговая панорама,
Одержимый пароход.
Никогда и не бывала,
А теперь ударил час,
Молодою и глупóю
Я такою, как сейчас.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу