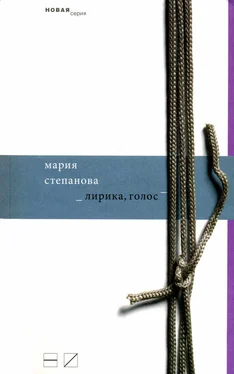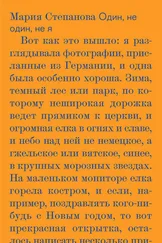Я общим бессознательным прикроюсь, как сознательным,
Я общим одеялом укроюсь, как своим,
Укроюсь, как своим —
И буду ма-лы-им?
И малыим, и белыим, и страшным, и дебелыим,
Малявинскою бабой с чугунною губой,
Золовкою коварной, цистерною товарной,
Заслуженной коровой, ведомой на убой.
И каждой,
И любой.
Мой компас земной,
Упорное «больно»:
Довольно одной.
Вольно.
Я салюта не видела.
Я салюта не видела!
Я салата не резала
И балкона не вымела;
Слыша громы недальные
Как бы официальные —
Те, что ходят не шпалами,
А колонными залами,
Не вставала из кресла я,
И увидела полыми
Эти стены воскреслые
В сине-розовом полыме,
И ура многодонные
Тщетно шли Воробьевыми,
И черты наладонные
Мне казались паевыми.
Жизнь в рту была паклею,
Сном, куском с недовескою,
Той уменьшенной пайкою
Иждивенскою-детскою,
Раз досюда не дожили
Те, что все-таки дожили
И узнали, что выжили
Все – и те, что не выжили.
Раз не знаю я, сдюжу ли,
И не знаю, увижу ли.
«– Ходили за линию, взяли языка…»
– Ходили за линию, взяли языка,
А он уже без языка.
Все, что он может издать, язык,
Крик бараний да зверский зык,
Птичье кря да русское бля.
И ни до-ре-ми, ни ля.
Никаких последних вестей,
Ни очертаний чужих частей,
Ни секретных кодов,
Ни потайных ходов.
Отпусти его, что ли,
Пусть побежит на воле.
Ночь обливная —
Свежая отбивная,
Перевернешь – и зашипит ужом.
Жизнь, какую не знаю,
За каждым запертым гаражом.
Холодно, да и ладно,
Давай считаться: первый-второй —
Я не буду железной дорогой,
Ты виноградником и горой.
Виноградники обмелели,
Палки в небо торчат.
Те леса, что не околели,
Скрывают своих волчат.
Я хотела бы, как хотела:
Раз и два на твоем веку
Применить свое человекотело
К южнонемецкому городку,
Который сверх-человечен —
Гора голова, и река рука,
И так тобою засвечен,
Что хватит на все века.
Кому дачу дали,
А кому медали,
А мои кому-то дачу продали – и дале.
С молотка пошла моя обломовка,
В пять окон дощатая дешевка,
Где и яблоня была антоновка,
И другая яблоня грушевка.
Юности в невинной и косматой
Я гуляла здешнею царицей —
В облаках младенческого мата,
Вне дозора внутренних полиций.
Так ли пьяный рынка на задворках
Все кудахчет, чая мордобоя,
А судья как барыня в оборках —
И белье под платьем голубое.
Кому дали дачу,
А кому на сдачу
Столько выделили рая,
Что сижу и плачу.
«В каждом парчике, на всяком бульварчике…»
В каждом парчике, на всяком бульварчике
Девки-ласочки катают колясочки,
Ходят пары, выбирают подарочки,
Покупают каолиновые масочки.
А в составе каолина —
Глина, глина, глина, глина,
Клетки тела, вечный хлеб,
Очень общий отчий склеп.
У пруда над лаптопами скайперы
С третьим миром ведут разговорчики.
На Мясницкой по крышам снайперы,
Пляшут пальчики на затворчике.
К ин-агу (агу! агу!) – к ин-аугурации
Шелестят дежурные рации,
Горожане в обнимку с плакатами
Сожимаются стальными пикетами.
Ребенок плачет, агу, агу,
Светила светят, нутро мурлычет,
Москва стоит, ярославна кычет,
Иду, куплю творогу.
Сегодня больно богатый выбор,
Как будто город доел и вымер.
Топ-топ, шоп-шоп,
Старый девичий озноб.
Дайте мне немного денег,
Чтобы стало хорошо б!
За хрустящие пакетики,
За цветные этикетики,
За акриловые гладкие алым лаком ноготки —
И за гладкий бок,
И за гладкий лоб,
За воронку тупой тоски.
Плохо живется женскому живому,
Женскому живому трудно выживать.
Лучше живется дому нежилому,
Бо нежилое труднее прожевать.
Никакая старость, никакая страсть
Ничего не могут более украсть.
Никакая нежить, алчущая жить,
Ничего не в силах более вложить
В то, что стало достоянием тления,
То, что стало состоянием таяния,
В уплывающие очертания,
Тело тления – дело пения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу