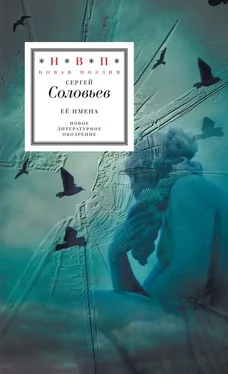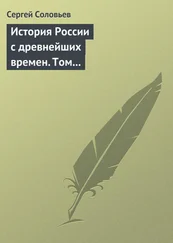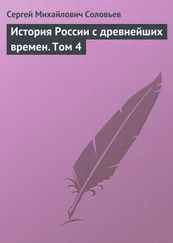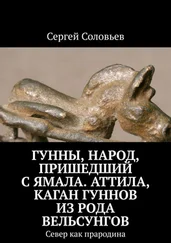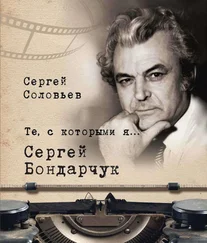«Ничего, моя милая, всё пройдет…»
Ничего, моя милая, всё пройдет,
схлынет с кровью, с любовью,
ничего не останется,
в сердце яблонька расцветет
и у ног сядут зайцы.
Ничего, моя милая,
это будет вначале —
ничего. А потом полегчает.
Дивный свет над могилою,
детки, солнышко,
всё включено.
Надо жить, моя ясная,
это боженька в спину тебя толкает,
никого там нет.
Всё он взял себе, чтобы связана
не была. Не смолкает
этот дивный свет.
«Я пока не знаю, как это сказать…»
Я пока не знаю, как это сказать.
Так всё неочевидно.
Разве что ты могла бы меня понять.
Ты, которой нет. И это «нет» как свидетеля – куда больше,
чем наше «есть»,
порознь, в нынешнем.
Как же это сказать?
О покровах памяти:
взгляд приблизишь – притворяются неживыми.
Отойдешь – оживают.
Это знаешь, как что?
Как… Велáнголи.
Дивное имя для индийского городка
на краю света,
обдуваемого песком забвения у Залива.
Веланголи,
ни одной тропы человечьей не вело к нему,
кроме той несусветной,
становившейся нами.
Длиннее чем жизнь
был автобус, без дна, без «откуда – куда»,
и водитель в леса уходил, возвращался
другим.
Да и люди, как годы, менялись в лице.
Да и люди ли?
Помнишь, так долго
мы смотрели в окно, что лицо незаметно
превращалось в окно,
и когда возвращались мы взглядом друг к другу,
будто медленно падали в окна.
А потом вдруг Веланголи —
с того света картинка: какой-то диспансер
пространства и времени:
все населенье,
ни за что обращенное в христианство,
шло по городу с метлами и мело на ветру
ускользающий этот песок.
И особенно дети.
Или кажется так мне теперь сквозь прореху.
А потом мы сидели с тобой на кривом берегу,
и какой-то бычок-лилипут между нами
ел с ладони незрелое манго
и смотрел
то в твои, то в мои – как в прорехи – глаза,
словно в этом причина, что он существует.
И багровое солнце топило себя в океане.
А потом —
сквозь узор истончившейся ткани и дней —
утлый егерский домик,
степь, плывущая в мареве зноя,
два оленя, сцепившись, висят над землей,
как кулон.
А в другой стороне – у залива —
розовато карминный колышется свет,
будто прачки полощут его, не фламинго.
Между этих сторон,
и лицом в эту жухлую горькую степь
ты лежишь
и всё шепчешь в нее мое имя.
Ранголи —
узоры миров,
их рисуют цветными мелками
в предутренней тьме у порогов домов
босоногие женщины,
свет их читает, стирая. Wie lange?
Как долго?
Веланголи, помнишь,
Веланголи…
Как… Велáнголи.
Дивное имя для индийского городка
на краю света,
обдуваемого песком забвения у Залива.
Веланголи,
ни одной тропы человечьей не вело к нему,
кроме той несусветной,
становившейся нами.
Длиннее чем жизнь
был автобус, без дна, без «откуда – куда»,
и водитель в леса уходил, возвращался
другим.
Да и люди, как годы, менялись в лице.
Да и люди ли?
Помнишь, так долго
мы смотрели в окно, что лицо незаметно
превращалось в окно,
и когда возвращались мы взглядом друг к другу,
будто медленно падали в окна.
А потом вдруг Веланголи —
с того света картинка: какой-то диспансер
пространства и времени:
все населенье,
ни за что обращенное в христианство,
шло по городу с метлами и мело на ветру
ускользающий этот песок.
И особенно дети.
Или кажется так мне теперь сквозь прореху.
А потом мы сидели с тобой на кривом берегу,
и какой-то бычок-лилипут между нами
ел с ладони незрелое манго
и смотрел
то в твои, то в мои – как в прорехи – глаза,
словно в этом причина, что он существует.
И багровое солнце топило себя в океане.
А потом —
сквозь узор истончившейся ткани и дней —
утлый егерский домик,
степь, плывущая в мареве зноя,
два оленя, сцепившись, висят над землей,
как кулон.
А в другой стороне – у залива —
розовато карминный колышется свет,
будто прачки полощут его, не фламинго.
Между этих сторон,
и лицом в эту жухлую горькую степь
ты лежишь
и всё шепчешь в нее мое имя.
Ранголи —
узоры миров,
их рисуют цветными мелками
в предутренней тьме у порогов домов
босоногие женщины,
свет их читает, стирая. Wie lange?
Как долго?
Веланголи, помнишь,
Веланголи…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу