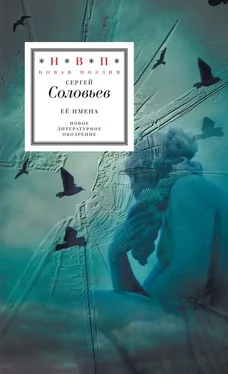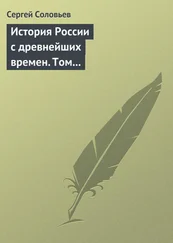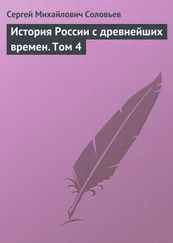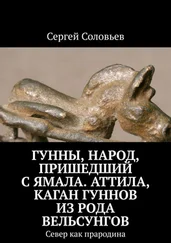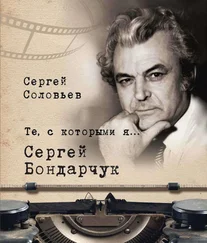«Души склещиваются, как собаки…»
Души склещиваются, как собаки,
семейство волчьих.
Визжат, не разъять.
Когда я тебя встретила, говорит,
глаза у тебя были гончие.
А потом она превратилась в «ять»,
вычеркнутую из языка,
не став матерью.
Странно вела себя эта любовь —
то снизу поглядывала, то свысока,
то сидела в ногах у нас, на кровати,
вязала кровь.
Но чем – веточками омелы?
Имя свое скрывала,
кто ж ее знает – кем была?
Легкая такая, худенькая, смелая
вселенная, не вывезла ее кривая,
черт-те где теперь, сама не своя.
Да, стрелы точно подходят к ранам,
ими нанесенными, как он говорит.
Спиной стоит, и лица ее не увидеть,
а мимо – мы с тобой, караваны
нас с тобой движутся: пить, пить…
Как постыден
со временем сам себе
ты становишься. Не привить
ни закат, ни песок, ни сознание —
по-живому.
Да, эпифит?
Не от почвы судьба, одни притязанья.
Или плющ, оторочивший деревце,
все цветешь, наливаясь до пожилого
опыта. Ввысь, ввысь…
Как дымок над Освенцимом.
«Она умерла. Но так, что нигде ее нет …»
Она умерла.
Но так, что нигде ее нет —
ни на том, ни на этом свете.
Переродилась?
Кто ж это скажет.
Как саламандры,
отращивая отсеченное?
Нет, всей душою и телом,
вместе с запахом, кожей, лицом.
Но не уличить в самозванстве.
Или все ж не бесследно?
По нисходящей,
на выживание той из себя,
с которой труднее выжить.
И эти следы видны.
Не ей.
Иначе б она была.
Иначе б она была
на том и на этом свете,
как любая душа,
если она одна.
Иначе —
стыд бы нашел щеку,
боль – губы,
бог – сына.
Иначе —
заячьих петель зуд,
сыпь счастья.
Видишь,
как эта фальшь крепнет,
как она жить хочет,
ей ли, невесте, саван?
Если б она,
а не эти гробки,
сирые празднички поминовенья
на могилках, которых нет.
Ястребок,
Мировая душа, Саммамит,
разрывает себя на части
в небе,
а на земле – гробки,
как узелки на память.
Если б она, но нет.
Нет ни ее, ни нити
к той, в кого она перешита.
Будто дверью ошибся —
ею. И, выходит, собой.
Так они прорастают,
наливаясь любовью,
и цветут, обвивая
все родней.
А потом умирают,
чтобы переродится
и цвести, прорастая
в другое, в другом.
Но что делать с лицом,
с пустотой меж ладоней
и душой в стороне?
Ничего.
Ничего, что фальшивит
путь и голос,
и чувства мутятся.
Тут, как в детстве:
болеют – растут.
«Здравствуй… Мы с тобой для веселья…»
Здравствуй… Мы с тобой для веселья
повод – божьего, он пропал, как молочко
грудное. Здравствуй. Так говорят в землю,
лежа ничком.
Видишь, дожили – не назвать по имени
даже. Дуем, как на ожоги: ты… ты…
Мир под речью лежал, как вода под ивою.
С тех и спросится – извивами немоты.
Что ж итожить нам? Что под елочкой
новогоднее? Шить и шить…
И сволачивается, как нить,
память – вся с иголочки.
И куда-то в сторону – ту, где были мы,
говорим, чуть дыша: держись…
Как в петле. Чуть покачиваясь. Без имени.
Разве боль притупилась? – жизнь.
Столько счастья далось нам – умо ли
постижимо? А даров сколько – видишь? Глаз
не отвесть. Мы спеленаты в них, как мумии, —
хоть на елочку вешай нас.
«Знаешь, сидел на веранде…»
Знаешь,
сидел на веранде,
курил, смотрел,
как дождь и солнце
друг друга отталкивали локтями,
немцы вокруг – птицы, деревья,
отменно выглядят,
даже белочка – и та Марлен.
Только вижу ли?
Пелена говорит:
я воздух, видишь, как я прозрачен?
В письменах пелена, в разводах.
А присмотришься: будто жизнь.
Будто весь ты в ней.
Это, помнишь, как в детстве коврик
над кроватью.
Будто весь ты там.
На поруки тебя берет
пелена.
И не выдаст уже.
Ну а ты,
гесиод молчанья,
моя девочка, мой герой, мой
павший,
как живется тебе без жизни —
труды и дни?
Твоя кожа тепла, как пепел,
и, как пепел, глаза светлы.
Но откуда ж такая тяжесть,
если легче огня он и горя тише?
На краю земли,
за три моря,
сын тебя по утрам возводит
из любви и тоски,
как воздушный или песочный замок.
За три моря ищу, но где ты —
в том краю ли, который телом
был,
а потом проснешься —
такое чувство,
будто там, во сне,
надругались над ним.
Лишь сон,
но сердцу ведь не прикажешь.
Пелена.
Или коврик детства.
Ночь меж нами, как пепел, еще тепла.
«Я живу в тебе, как Марко Поло в тюрьме…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу