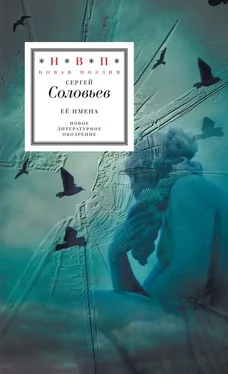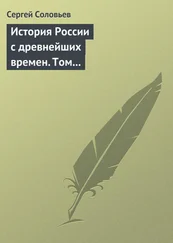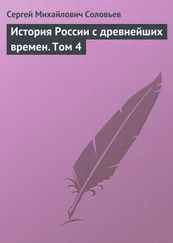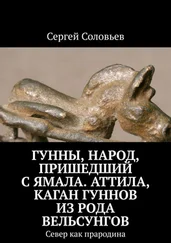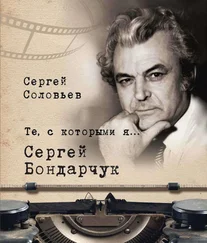«Радуйся, суслик, радуйся, Иов, радуйся, полевая кашка…»
Радуйся, суслик, радуйся, Иов, радуйся, полевая кашка,
и ты, лунная дорожка позвоночника, и ты, полукровка —
жизнь, и ты, левиафан в голове моей, посудной лавке,
радуйся, мужское и женское, вас могло и не быть вовсе,
радуйся, ослик несотворенного и ты, икающая пустота,
радуйся, желтое чувство смерти, как на ветру колосья,
Богородица-Дева, радуйся, евангелие твоего живота,
радуйся, радость моя, что ж ты одна сидишь в темноте,
ни души в тебе.
«И запах осени, как в доме престарелых…»
И запах осени, как в доме престарелых
в какой-нибудь Швейцарии,
и чистенько и тихо, до утра
не гаснет коридорный свет, и мелом
начертанное облачко мерцанья,
как за стеклом дежурная сестра.
Река лежит, вся брошена, не спится,
глаза открыты, и песок в горсти
бесчувственно в ночи перебирает.
И у деревьев прожитые лица —
до жилочек, до каждой, до кости.
Душа припала к телу – как украли.
И память роется в углах и водит взглядом
по голым стенам. Кто здесь, покажись.
Одна душа. С сестрой. И запах прелый
почти неощутим. Прийти бы рады,
но не придет никто. И ложечка звенит о жизнь.
Как чай разносят в доме престарелых.
«Этот маленький город русыми косами…»
Этот маленький город русыми косами
лег на темную воду, а лицо стёсано
вместе с именем, весь у края России.
Двое здесь их: ворон из Абиссинии
и человек, которого звали Иммануил.
Ворон, ростом с ребенка, стоял, долбил
пупсика, он взвизгивал, ворон вздыхал,
череп Иммануила в гробнице своей лежал
на боку, смотрел на кости – вроде бы все.
Когда-то он на этих ногах ровно в семь
ходил на прогулку, и горожане свои часы
по нему сверяли, покачивался, как сын
чистого разума и нравственной невралгии.
Небо в этом городе жило лишь благими
намереньями, а не звездами или синью.
Чередовал вздохи с грудной икотою абиссинец,
Зоб его бирюзов, сам черен, а рог сломан,
землю сжимал в горсти, как я – слово.
Так мы с ним говорили, оба прильнув к сетке,
солнце висело над нами на нижней ветке.
Горькое говорили. Собирая последние вещи
взглядом. Мир минус небо женщин
строил Иммануил. Видимо, для острастки
время долбило пупсика брошенного пространства.
Ворон сквозь сетку просунул клюв и приоткрыл,
насколько ему позволяли прутья, будто был
я его отраженьем. Я и был. По ту сторону —
там, где в кости играет Иммануил, или в ворона —
день с бирюзовой шеей. То есть здесь, нигде,
в городе на краю, где страна оборвана,
только косы русые стелятся по воде.
«В Моби Дике гарпунщик по имени Квикег…»
В Моби Дике гарпунщик по имени Квикег,
смастерил себе гроб и держал его на корме,
чтобы отправиться в этом, волнами увитом,
челне к звездным архипелагам, а не на дне
как цветок распускаться в пучинных пчелах.
Но когда корабль в битве с белым китом
пошел ко дну, всплыл только гробик-челн
из черной вспенившейся воронки. Я о том,
что давно уже в нем плыву. Такое чувство.
Плыву, пишу на стенах свои трудодни и ночи,
точнее, пальцем вожу в пустоте. А тусклый
свет оттого что другого тут нет источника,
кроме собственных глаз. Тиха в разоре,
дрейфует память. Он существует еще, наверно,
мир, хотя, чем дальше, тем иллюзорней.
Да, память, болезнь морская, ты ей не мера.
Пиши. Ни звука, ни отраженья. Как будто мелом
твой челн очерчен. И мутный морок. Чистый лист
плывет, как парус белый,
и топит все, что ищет смысл.
Я помню женщину… Она была. У слова
должна быть женщина, как боженька. На слух
чтоб речь стремилась выйти из разлома
теней ли, жизни, языка… Была у губ. Добру и злу —
свобода что? Они ее не знают. Морось, буквы
метет над гладью. Домовинку на волнах,
как колыбель, качает. Ночь, и нет голубки
со слухом певчим, веточкой в губах.
«Мне ли знать, что случилось?…»
Мне ли знать, что случилось?
Был у нас дом, сын, мы.
Отойди от меня, сказала,
и обернулась. Глаза другие.
Губы – те, что теплей и мягче
детства, вдруг стемнели и стали тверже
дома, мира в окне, руки…
Отойди,
тебе сын через годы скажет,
не с тобой мое сердце.
Возвращается все,
только нет тех, к кому.
Отойди
все, что жизнью звалось. Мы едва
это счастье затеплили.
У тебя – чудеса, у меня – ремесло,
между нами был сад, и в подоле твоем
пахли яблоки. Мальчик будет, я думал.
Мой сын. Чей бы ни был. Не помню,
как тебя подменили.
Ты – его, он… Не помню,
как вошел в тебя свет,
от которого все так стемнело,
и ответила кроткой улыбкой – кому?
Мне не сладить с умом.
Если грех на тебе,
было б легче, наверно.
Я с тобой
или с жизнью, что ты отняла?
За покровом,
который холмом обернется,
что ты пела?
Не ты?
Не из смерти его?
Он поверил тебе,
и стемнело,
только лица светились волхвов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу