Мы озябшие дети, наследники птичьих кровей,
в проспиртованной Лете — ворованных режем коней.
Нам клопы о циклопах поют государственный гимн,
нам в писательских жопах провозят в Москву героин.
Я поймаю тебя, в проходящей толпе облаков,
на живца октября, на блесну из бессмертных стихов,
прям — из женского рода! Хватило бы наверняка
мне, в чернильнице — йода, в Царицыно — березняка.
Пусть охрипший трамвайчик на винт намотает судьбу,
пусть бутылочный мальчик сыграет «про ящик» в трубу!
Победили: ни зло, ни добро, ни любовь, ни стихи…
Просто — время пришло, и Господь — отпускает грехи.
Чтоб и далее плыть, на особенный свет вдалеке,
в одиночестве стыть, но теперь — налегке, налегке.
Ускользая в зарю, до зарезу не зная о чем
я тебе говорю, почему укрываю плащом?
МОСТЫ
1.
Лишенный глухоты и слепоты,
я шепотом выращивал мосты —
меж двух отчизн, которым я не нужен.
Поэзия — ордынский мой ярлык,
мой колокол, мой вырванный язык;
на чьей земле я буду обнаружен?
В какое поколение меня
швырнет литературная возня?
Да будет разум светел и спокоен.
Я изучаю смысл родимых сфер:
пусть зрение мое — в один Гомер,
пускай мой слух — всего в один Бетховен.
2.
Слюною ласточки и чирканьем стрижа
над головой содержится душа
и следует за мною неотступно.
И сон тягуч, колхиден. И на зло
Мне простыня — галерное весло:
тяну к себе, осваиваю тупо.
С чужих хлебов и Родина — преступна;
над нею пешеходные мосты
врастают в землю с птичьей высоты!
Душа моя, тебе не хватит духа:
темным-темно, и музыка — взашей,
но в этом положении вещей
есть ностальгия зрения и слуха!
* * * *
Жил да был человек настоящий,
если хочешь, о нем напиши:
он бродил с головнею горящей,
спотыкаясь в потемках души.
По стране, постранично, построчно
он бродил от тебя — до меня,
называющий родиной то, что
освещает его головня:
…ускользающий пульс краснотала,
в «Рио-Риту» влюбленный конвой.
И не то, чтоб ее не хватало —
этой родины хватит с лихвой.
Будет видео фильмы вандамить,
будет шахом и матом Корчной,
и по-прежнему — девичья память
незабудкою пахнуть ночной.
Будет биться на счастье посуда,
и на полке дремать Геродот,
Даже родина будет, покуда —
Человек с головнею бредет.
ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ
Щебеталь моя, щепетиль,
видно, не в чудовище — корм:
ветреные девушки — в штиль,
шторы полосатые — в шторм…
Мы сидим, колени обняв,
наблюдаем гибель миров:
нет ни темноты, ни огня,
полное отсутствие дров.
Гонорея прожитых лет,
ни стихов, ни денег, ни-ни…
Помнишь, я ходил в Интернет?
Нет его. Теперь мы одни.
Вычеркнут Васильевский твой
и Подол задрипанный мой!
И еще поет, как живой,
на сидишном плэере — Цой.
Некому теперь подражать.
Некого теперь побеждать.
Значит, будем деток рожать
и Его Пришествия ждать.
Где теперь мое комильфо?
Хорошо, что нет неглиже!
Был такой прозаик — Дефо,
он писал о русской душе.
Плакал средь тропических ив,
островное трахая чмо.
Вот и я, бутылку допив,
отправляю это письмо.
* * * *
Бахыту
Над Марсовым полем — звезды керосиновый свет,
защитная охра, потертый вишневый вельвет.
Идешь и не плачешь, не плачешь, не плачешь, не пла…
…из холода, солода и привозного тепла.
Еще Инженерного — дынный не виден фасад,
и жизнь одинока, и это она — наугад
меня выбирала, копаясь в кошачьем мешке,
без всяческих выгод, не зная об этом стишке.
Когтистая музыка, книжное перевранье,
попробуйте, твари, отклеить меня от нее!
Попробуйте звукопись, летопись, львиные рвы,
салат Эрмитажа, селедочный отблеск Невы!
Нас может быть трое на Марсовом поле: пастух,
и мячик футбольный, в кустах испускающий дух.
Забытый, забитый — в чужие ворота, и тот,
который звезду над воинственным полем пасет.
Петром привезенный, с Кенжеевым накоротке,
пастух-африканец, сжимающий пряник в руке.
На Марсовом поле — трофейный горчит шоколад,
и смерть — одинока, и это она — наугад,
ко мне прикоснулась, и больше не тронула, нет.
А лишь погасила звезды керосиновый свет.
* * * *
Открывая амбарную книгу зимы,
снег заносит в нее скрупулезно:
ржавый плуг, потемневшие в холках — холмы,
и тебя, моя радость, по-слезно…
…пьяный в доску забор, от ворот поворот,
Читать дальше

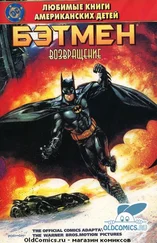

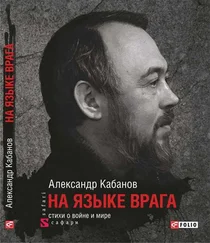

![Александр Ирвин - Бэтмен. Рыцарь Аркхема - Гамбит Загадочника [litres]](/books/395777/aleksandr-irvin-betmen-rycar-arkhema-gambit-zag-thumb.webp)





