в овраге — цыганский табор,
багульник, чертополох, камыш,
выбритые до синевы скулы и подбородки
домов, шиферные шевелюры крыш.
Днепр тянется лентою тугоплавкой —
в ржавых пупырышках сухогрузов и барж,
плавни слегка отсвечивают холодной сваркой,
бабочка сама себе командует: «Шагом марш!»,
и возвращается на адмиральский мостик,
ставни открыты, в комнате женский стон,
затем, умоляющий шепот: «Ну, еще разочек, Костик…»
бабочка недоумевает и погружается в сон.
А по двору гуляют: запах сапожного клея,
крашеной кожи, слышится молоточный стук,
старый сапожник оглядывается, сплевывает, и, не жалея —
забивает последний гвоздь глубоко в каблук.
* * * *
Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево —
в рюмочной опрокинула два бокала,
на лету проглотила курицу без подогрева,
отрыгнула, хлопнула дверью и поскакала.
А налево больше не было поворота —
жили-были и кончились левые повороты,
хочешь, прямо иди — там сусанинские болота,
а на право у нас объявлен сезон охоты.
Расставляй запятые в этой строке, где хочешь,
пей из рифмы кровь, покуда не окосеешь.
Мне не нужно знать: на кого ты в потемках дрочишь,
расскажи мне, как безрассудно любить умеешь.
Нам остались: обратный путь, и огонь, и сера,
мезозойский остов взорванного вокзала…
Чуть помедлив, на корточки возле меня присела,
и наждачным плечом прижалась, и рассказала
* * * *
И чужая скучна правота, и своя не тревожит, как прежде,
и внутри у нее провода в разноцветной и старой одежде.
Желтый провод — к песчаной косе, серебристый — к звезде над дорогой,
не жалей, перекусывай все, лишь — сиреневый провод не трогай.
Ты не трогай его потому, что поэзия — странное дело:
все, что надо — рассеяло тьму и на воздух от счастья взлетело.
То, что раньше болело у всех — превратилось в сплошную щекотку,
эвкалиптовый падает снег, заметая навеки слободку.
Здравствуй, рваный, фуфаечный Крым, потерявший империю злую,
над сиреневым телом твоим я склонюсь и в висок поцелую.
Липнут клавиши, стынут слова, вот и музыка просит повтора:
Times New Roman, ребенок ua., серый волк за окном монитора.
* * * *
Местные лошади бредят тачанкой,
что бронзовеет в степях под Каховкой,
ржет на конфетах с клубничной начинкой,
мчится в куплетах с печальной концовкой.
Скифские бабы (видать от обиды)
окаменели, в кровать не заманишь.
Вспомнишь полынное небо Тавриды
и позабудешь, писателем станешь.
* * * *
Будто скороходы исполина —
раздвоилась ночь передо мной,
и лоснилась вся от гуталина,
в ожиданье щетки обувной.
Что еще придумать на дорожку:
выкрутить звезду на 200 ватт?
Не играют сапоги в гармошку,
просто в стельку пьяные стоят.
В них живут почетные херсонцы,
в них шумят нечетные дожди,
утром, на веранду вносят солнце
с самоварным краником в груди.
АППАНСИОНАТА
Море хрустит леденцой за щеками,
режется в покер, и похер ему
похолодание в Старом Крыму.
Вечером море топили щенками —
не дочитали в детстве «Му-му».
Вот санаторий писателей в море,
старых какателей пансионат:
чайки и чай, симпатичный юннат
(катер заправлен в штаны). И Оноре,
даже Бальзак, уже не виноват.
Даже бальзам, привезенный из Риги,
не окупает любовной интриги —
кончился калия перманганат.
Вечером — время воды и травы,
вечером — время гниет с головы.
Мертвый хирург продолжает лечить,
можно услышать, — нельзя различить,—
хрупая снегом, вгрызаясь в хурму,—
море, которое в Старом Крыму.
ОКНО
Сода и песок, сладкий сон сосны:
не шумит огонь, не блестит топор,
не построен дом на краю весны,
не рожден еще взяточник и вор.
Но уже сквозняк холодит висок,
и вокруг пейзаж — прям на полотно!
Под сосною спят сода и песок,
как же им сказать, что они — окно?
* * * *
Какое вдохновение — молчать,
особенно — на русском, на жаргоне.
А за окном, как роза в самогоне,
плывет луны прохладная печать.
Нет больше смысла — гнать понты, калякать,
по-фене ботать, стричься в паханы.
Родная осень, импортная слякоть,
весь мир — сплошное ухо тишины.
Над кармою, над Библией карманной,
над картою (больничною?) страны —
Поэт — сплошное ухо тишины
с разбитой перепонкой барабанной…
Наш сын уснул. И ты, моя дотрога,
Читать дальше

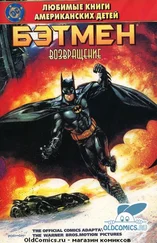

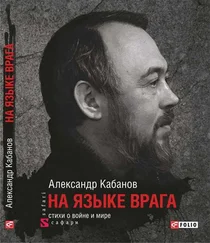

![Александр Ирвин - Бэтмен. Рыцарь Аркхема - Гамбит Загадочника [litres]](/books/395777/aleksandr-irvin-betmen-rycar-arkhema-gambit-zag-thumb.webp)





