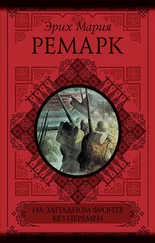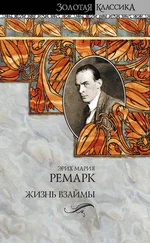Ты знаешь: в марте дождик стылый —
Земле прививка райской силы.
Наши сердца, как лилии в мае, томятся по лету,
Наши сердца томятся предчувствием чуда в крови,
Наши сердца томятся близостью теплой земли,
Готовой зачать от дождя небесного,
Наши сердца томятся от жажды расти, расцвести и увянуть,
Наши лица раскрываются, будто листья,
А сердца разбухают от будущих соков, от ожиданья
полета бабочек
И гудения пчел.
Даже коль церковь тебя причащает
И называет агнцем невинным,
Даже коль папа тебя величает
Христа самого возлюбленным сыном,
Ты знаешь, папа все-таки не прав,
И церкви власть — не выше прочих прав,
А он — не Божий глас, а Божий раб.
И кардиналов, и прочих святош немало.
В аду — найдутся и папы, коли поискать.
Хотя им церковь исправно грехи отпускала,
В аду они каются — Бог и не думал прощать, —
И правильно: нечего Заповедь нарушать!
«Брат мой, ты слышишь ли шум дождя?..»
Брат мой, ты слышишь ли шум дождя?
Капли строчат, как из пулемета,
И время расстреливают, не щадя, —
Твое и мое. Началась охота:
Дырявят выстрелы ткань бытия,
Ветхий костюм… это ты или я?
Свободны, в плену и мертвы заодно, —
Брат мой, мы узники все равно,
О брат мой!
Сгнить под землей суждено всем нам:
Человек есть прах — не скала и не камень,
А если все сдохнем и все будем там —
Так пусть же пребудет мужество с нами!
«Падают листья, падает дождь…»
Падают листья, падает дождь,
Падают тучи в морскую гладь.
Падают сны на подушку, а в сердце — печаль,
И только смерти росток в душе становится выше.
Так далеки мечты. Так далека любовь.
Отдаляется близкое. Горизонта черта
Пролегла через сердце твое.
Как далеки твои руки!
Губы твои позабыты. Дыханье твое —
Всего лишь ветер дождливым утром.
Холодно Богу. Умерло Время.
И лишь смерти росток безмолвный
В душе становится выше.
С каждым днем умираешь еще немного,
С каждым днем все пустее твои ладони.
Не приходит никто. Тишина у порога,
И ничто уж не держит, ничто не затронет —
Все мертво уж, все в прах обратилось убогий.
Только смерти росток в душе становится выше.
Огонек задрожал, померк и угас, —
Как много их — тех, кто погиб до нас…
Все еще больно! Открыты раны,
Но открытые раны — как открытые двери.
И солнечный свет играет в крови,
Что слишком долго безмолвно
Во тьме по венам бежала,
А теперь течет — еще продолжает течь —
Пурпуром ярким страдания,
Пурпуром нежным прощания.
Кровь бежит и уходит, уж чуя свою судьбу, —
Беглянка, что долго томилась
В темнице счастья, в темнице боли, —
Опять свободная, пусть еще слабая,
Но снова — на воле бурь,
Перемен, приключений,
Дали далекой и чужестранной,
От затхлости бренного тела освобожденная,
Открытая всем ветрам,
Открытая миру…
Вновь на ветру трепещут флаги стремлений,
Вновь развевается знамя жизни.
«Он погиб под Можайском…»
Он погиб под Можайском. Ночью.
В мороз. На белом снегу.
Холод мгновенно его заморозил, — окоченев в секунду,
Тихо упал он в снег.
Отяжелевшее тело в снега уходило все глубже,
Все глубже и глубже, — и новым снегом его заметало.
Часы его прожили все же подольше, чем он, но потом
и они встали —
В половине восьмого.
И снова все было белым-бело — весь декабрь, и январь,
и февраль тоже,
И тихо скользили лыжи солдат неприятельских
В трех метрах над ним,
В направленье Смоленска.
А после задули ветры, и начал подтаивать снег.
С мартом пришла весна, с весною — теплые ветры,
И он восстал из белой своей могилы.
Как грязный ком, заскользил вниз по склону,
по талому снегу, —
И, наконец,
Коснулся земли.
Вокруг все таяло и оживало —
Ожили и открылись и раны его. И кровь заструилась,
И он, наконец, умер по-настоящему.
Уснул на лугу, с винтовкой своей и каской,
И ожил в духе — или, точнее, в смраде.
Он рос, он двигался, пух,
И в снах тревожных своих
Снова сражался.
Двигались черные губы его,
Дрожали петли кишок гниющих,
Мерзко воняя,
Шевелились порою склизкие руки…
Но, наконец, он умер и в третий раз,
Съежилось тело в обтрепанном сером мундире,
Вжалось, вросло в землю, и черепа взгляд пустой
Стал безмятежным, мирным и отчужденным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эрих Ремарк Я жизнью жил пьянящей и прекрасной… [сборник] обложка книги](/books/430231/erih-remark-ya-zhiznyu-zhil-pyanyachej-i-prekrasnoj-s-cover.webp)


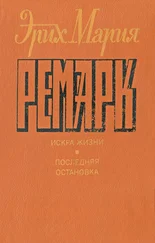
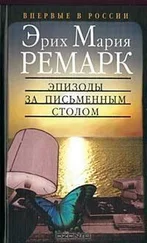
![Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]](/books/337777/erih-remark-iskra-zhizni-perevod-r-ejvadisa-thumb.webp)