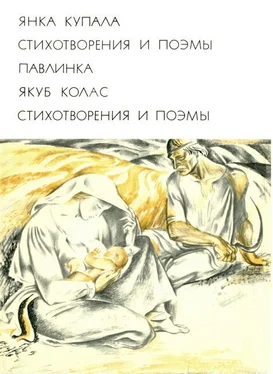Михал не спит, а боль тупая
Растет, под сердце подступает.
Нет ни надежды, ни желаний.
Его померкшее сознанье
Все беспокоит, все тревожит.
Ни спать, ни есть уж он не может.
Огонь колышется и пляшет,
Кругом немые тени машут.
Они качаются, трясутся
И смехом пустеньким смеются;
То бегать по стенам начнут,
То снова медленно плывут.
Огонь все движется, все скачет…
Михал вдруг слышит — кто-то плачет.
Иль то бубенчик под дугой
Звенит печалью и тоской?
А чьи же очи там блеснули?…
И мысли далеко скакнули
В поток просторов и времен,
Где нет границ и нет препон.
Глядит Михал. Нет, что такое?
Он не один, а их уж двое:
Один Михал — больной и сонный,
Другой — силач неугомонный.
Один лежит, другой идет,
Идет по лесу без забот,
Веселый, песню распевает,
Того ж, дурной, не замечает,
Что за спиной, за шагом шаг,
Крадется страшный, темный враг
В каком-то длинном балахоне
И водит пальцем по ладони,
Кивнет с усмешкой и чертит,
Записывает, ворожит.
Кто он такой? Чего он хочет?
Что он, нагнувшись, там бормочет?
И неприятный запах тленья
Пахнул от черного виденья…
И запах ладана исходит…
Так это ж смерть за ним там ходит!
Иль это поп?… И все пропало.
Михала и следа не стало.
Куда ж он делся? Где он, где?
Эх, быть беде! Ну, быть беде!
Ах, нет! Вот он! Он волком стал:
Бежит — испуг его забрал.
Ой, прорубь! Ой! Он — прыг туда,
И понесла его вода.
Конец… В воде он пропадает.
Ушел под лед, а лед сверкает.
Взирают, дрогнув, дебри леса.
И вдруг какая-то завеса
Под чьей-то страшною рукой,
Сближая небеса с землей,
Надвинулась суровой мглой.
Михалу стало тяжело,
В груди дыханья не хватает,
А мрак все ниже нависает,
И светлый круг немой пустыни
Вот-вот погаснет в тьме-пучине.
Михал кричит и в страхе бьется,
Чуть-чуть завеса раздается.
Глаза он тяжко размыкает,
В его руке — рука другая.
Он изнемог — теснит дыханье.
Ах, сколько скорби и страданья!
Он просит помощи людей,
Жены, и брата, и детей.
Ведь небо черство, небо глухо
И не приклонит к людям уха;
Хоть ты проси, хоть ты моли,
Хоть сердце стонущее вынь,—
Не шевельнешь его твердынь.
Оно далеко от земли,
Оно бесчувственно: немое,
И безответное: пустое.
«Ты узнаешь меня, Михал?»
Он веки тяжкие поднял
И на жену уставил взгляд:
«Жена… Спаси меня!.. О, брат…
Спаси, спаси!.. Спасайте, детки!..» —
И струи слез полынью едкой
В глазницах впалых выступают.
Михал вздохнул и затихает.
«Ой, свечку, свечку! Умирает!»
Лицо дрожит в последней муке,
На грудь бессильно пали руки.
Михал еще раз содрогнулся,
Еще на миг один очнулся,
Как будто что припоминая…
Он дышит, но дыханья мало,
И вдруг ему все ясно стало.
«Антось… Родной мой… Жить кончаю!
Я весь сгорел, брат… Умираю.
Веди хозяйство… сам, один,
Как брат родной, как лучший сын…
Бог не судил мне видеть воли,
Свой хлеб посеять не позволил.
Земля… земля… люби родную.
Трудись над ней. И дай красу ей!
На новый лад… Жизнь сделай новой…
Детей не брось… Ох!..» И готово.
Ни слов живых, ни сердца стука.
И холодеющую руку
Антось целует, и рыдает,
И к телу брата припадает.
Ой вы, дороженьки людские,
Тропинки узкие, кривые,
Во тьме свои вы петли вьете,
Как будто по лесу бредете.
Простор вас кличет небывалый,
Где горизонт лазурно-алый,
Где солнца так пригожи взоры,
Где думы ткут свои узоры,
Чтоб жизнь по-новому начать
И счастье воли сердцу дать
И разогнать его тревоги…
Свободный путь!.. Когда ж во мгле
Ты засверкаешь на земле
И все в одну сведешь дороги?
Глядит в окошко тихий вечер,
Струится мрак на тесный двор.
Мороз, зимы художник вечный,
На стеклах пишет свой узор.
Лежит земля в одежде белой,
Лес нарядился в жемчуга.
Покой холодный, омертвелый
Хранят безмолвные снега.
Но в старой хате жизнь мерцает:
Свидетель дедовских времен,
Печалью древней удручен,
Лучник, как колокол, свисает. {101}
Лучина в лучнике дымится,
И весело огонь трещит,
Как бы живой, как бы жар-птица,
О чем-то о своем шумит.
Казалось бы, что в этой хате,
Замшелой, сгорбленной, седой,
Лежать бы должен на полатях
Ведун с крестьянскою душой
Или ворожея, что может
О будущем поворожить,
Людей гаданьем удивить
И даже сердце им встревожить.