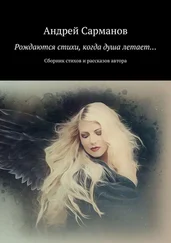наблюет на арийцев, лишь ненависть в горле першит,
и не пьяный, а мертвый, но точно под тем же забором
не успеет вздохнуть… и чечен он, башкир или жид,
безразлично-кромешная ненависть, словно истома,
сухожилия тянет и тело изломами гнет,
рявкни «Хайль!», удивишся, какой-нибудь поц оголтелый,
выбегая из дома истошно тебе подорет.
Это ненависть, мама анархия, ногти в тротиле,
в чебуреках, в пельменях, в чернилах, зиг хайль, в пастиле,
ни сомнений, ни принципов, все, во что мы превратились,
ненавидя, нахваливать церковь и русский балет.
Но когда накипит, когда страсти дойдут до стаместки,
и терпеньем по ребрам шарахнет травматик «Оса»,
хайль Аллах во Христе, мы заткнем свои детские песни,
чтобы опер не вычислил нашей любви голоса.
Слишком много живых, самосвалы прочитанных книжек,
кареглазая Русь прет на голубоглазый Кавказ…
убивай о любви, этой радостью ненависть движет,
это счастье которое бесится здесь и сейчас.
И пускай либералы сбривают свои бороденки,
никому не поможет премьер и отборный ОМОН,
бунтари будут брюхо вскрывать за тюремные шконки
и колени ломами-за шлёнку пустых макарон,
кто-то станет вождем кислых щей на котле пищеблока,
кто-то атомный ящик прищемит цепочкой к руке…
Ничего не имеет значения, нас слишком много,
материнских козлят, прокипевших в ее молоке.
И уже наплевать в чьих традициях режет приезжий
озверевших фанатов, фашистов эФКа «Спартака»
просто ненависть времени горлом пошла на Манежной,
как любовь, у которой взошли два кинжальных клыка.
Последний новый год
Вдвоем сидели за столом,
бутылка красного, пластинки,
свеча, на елке старый гном
еще из бабкиной корзинки.
Вдвоем. И темень из окна,
как будто в мире только двое,
давно все сказано, вина
тебе в бокал, вдвоем с тобою
не бить зеркал, не прятать шприц,
в канале утопить "беретту"
и никого, и наших лиц
давно раскрытые секреты,
не говори, я так прочту,
не плачь, love street не повторится,
мы просто будем на свечу
смотреть, смеяться и молиться
вдвоем… как больно помнить все,
как счастье жжет, не хватит духа
в ту ночь понять, что разнесет
нас навсегда, навечно, Ксюха.
Головой сумасшедшего Гоголя,
развалившимся монастырем,
как еще мог почувствовать бога я,
как еще мог я помнить о нем…
То, что тетками названо «случаем»,
то, что паства зовет «чудеса»,
я, подонок, даю неимущему,
чтоб он прожил еще полчаса
и, конечно, загнулся с похмелия,
проклиная меня… Не пойму,
ничего не пойму, лишь сомнения
в том что, я, в самом деле, живу.
Пил всю ночь с черным камнем Есенина,
утром в белой горячке убил,
и кончается вечность спасения
долголетием древних могил.
Но гляжу, на дороге Осташкова –
камень выщерблен, гвозди, цветы,
и до самого неба ромашками
никакой, никакой суеты.
Ни шалав с запотевшими ляжками,
ни уродов с китайским ТТ,
просто небо оделось ромашками
и рвануло свое декольте…
И ворвались глаза в обнаженное,
там и Гоголь, и пустыни прах,
там поэты, убитые женами,
там и я в материнских руках.
Я боюсь, что уже не увижу тебя,
воет ветер, метель обещает мороз,
коркой черного хлеба кормлю воробья,
чтобы в клюве он крошку печали унес.
Я боюсь, что уже не увижу тебя,
слышу песни, которые слушала ты,
и сижу у окна, и смеются, грубя,
над тоскою моей жизнелюбы-менты.
Я боюсь, что уже не увижу тебя,
ни осенней Москвы, ни багряных аллей,
ни оркестра машин, что безумно трубят,
так бы слушал весь век… Знал бы ты, воробей,
будто это и есть настоящая жизнь,
где давно уже некому слова сказать,
снова воет метель, и еловая кисть
надломилась, и снежная мчится гроза,
и окурок дымит в банке масляных шпрот,
и завхоз на баяне играет не в лад,
и носилки забрали, и кто-то умрет…
Или умер — тому лет пятнадцать назад.
Я боюсь, что уже не увижу тебя
в этом тихом кошмаре обыденных дней,
всю курю и зачем-то кормлю воробья…
Видно, нет никого здесь родней.
Убийцей был создатель Ватикана…
Я вспомнил — нужно ватой заложить
окно, откуда льются непрестанно
ледовые январские дожди,
и неудобно в вязаных перчатках
страницы перелистывать. Темно.
И кажется, что чеховская Чайка
ко мне стучится в черное окно.
Я думаю, а мог ли быть убийцей
Читать дальше