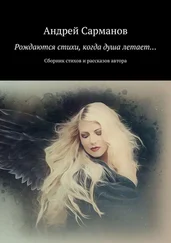не то что петь, открыть не смогут ртов,
лауреаты, члены, медалисты…
Вот Гумилеву страшно у стены.
И кажется никто из нас не мыслит
такой судьбы, ведь все одарены
примерно равно, в общем все нелепы,
в истории останется лишь тот,
кто в бесконечность жизни веря слепо,
стреляет вдруг в пророческий свой рот.
Метель, метель, застывшая собака,
крупа сечет дрожащие кусты,
остывший чай в бокале с черным маком
и на стекле стеклянные цветы,
метель, метель, за тысячи столетий
седая вьюга так же молода,
естественна и равнодушна к детям,
метель, метель и сердце изо льда,
не прикурить, не встать, не осмотреться,
метет в подол бульварных магдалин,
и ледяное охнувшее сердце
летит, стуча в навьюженной пыли,
метель, метель зовет и завывает
и дверью бьет, и мечется в глазах,
и черный снег в бокале с черным чаем,
и жизнь уже похожа на вокзал,
откуда все разъехались и рельсы
метелью под перрон занесены,
не радуйся, не помни, не надейся
на оттепель, засни, но даже сны
бесцветные свистят под одеялом,
метель, метель прокисший мутный свет,
забилась кровь летающим крахмалом
и больше ничего в крови той нет.
Такие дни… Так тысячи историй
искали оправданье в паре слов.
Ночами я люблю смотреть на море.
мечтая, что еще не повезло,
что волны разобьются, станет тихо,
такие дни… в прозрачной тишине
рассказчик моей жизни, тайный диктор,
расскажет монотонно обо мне.
Такие дни, водой текут, проходят
как будто никуда, покоя нет,
случайное стечение мелодий,
такие дни — обычность долгих лет,
у всех ли так, любой ли знает цену
прошедшим дням… Свобода и покой,
и душераздирающие сцены
ленивою написаны рукой.
Ночами я люблю смотреть на звезды,
в гигантское ничто, такие дни,
смотреть на них и верить, что не поздно,
что на удачу вспыхнули они
Или ты, постоянная радость, течение сна,
пламя вспыхнувших кружев на платье возлюбленной Фета,
или вечер в театре, эстрадная рифма "весна",
или морфий, который поэт называл "марафетом",
список бреда, набор инструментов для первой любви,
пальцы юноши, нервно играя, крадутся под платье,
и бессмертная просит о том, чтоб ее отравил
на последней странице романа бездарный писатель.
Песни скуки, в них губы кусает отчаянный смех,
говори непонятно — в отечестве станешь пророком,
только крупные кражи имеют тиражный успех,
пальцы юноши, нервно играя, воруют у Блока
проездной на метро, лабиринты, мозаичный ад,
где- то здесь, на "Марксистской", томится в час пик Эвридика,
посмотри на ряды душегубов — военный парад!
русский марш, доводящий дрессурой до нервного тика,
разлюбить ни за что, возлюбить за бутылку вина,
будет сказано кем-то за ужином лет через двести,
подгорели котлеты и осточертела жена,
и по-пьяни (во рту оливье) — пугачевские песни,
до скончания дней, до последних китайских трико,
поминая княжну Чавчавадзе, мечтать до инфаркта
о раздвинутых ляжках и шарить в ширинке рукой,
и Олимпию видеть в минетчице Вике с Монмартра.
Или ты, королева тетрадей в двенадцать листов,
черных гелевых стержней моих сумашедшая муза,
покажи мне язык, чтобы этот собачий вальсок
стал гвоздем дискотек подмосковного города Руза,
где сисястая блядь целоваться учила взасос,
и с тех пор я стихами ищу ее губ лихорадку,
Айседора Медведева, Анна Сергеевна Мосс,
заразившая триппером Шарля Бодлера мулатка.
Говори о любви и резцы наводи для укуса,
старых стен желтизна, гималаи заснеженных крыш,
зимних сумерек дождь, фонарей перебитые бусы,
тебе некому спеть, ты со злости в глаза им молчишь.
Тебе некому жить, крикни: «Зиг!», оторвутся соседи,
за бутылкой чашмы мир окажется кухонно прост…
и за кухонный нож тебя может быть вытащит медик,
если не возмутишся когда он проколет наркоз.
А потом полыхнет и вагоны ошметками мяса
перемажут платформу Аллаху Акбар, будний день,
мордобой и напильники, девушки бьют черномазых,
и Христос упаси вас увидеть убитых детей.
Говори о любви и свинцовые делай кастеты,
бляхи флотских ремней заливай, так соскучились все
по кровищи на площади, слишком уж черное лето
разморило душонки и тушки свалило в бассейн.
Гавкни «Слава России!», пивная пробулькает хором,
Читать дальше