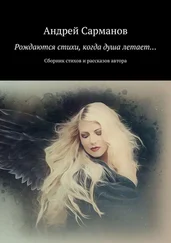И жить никто мне не поможет.
От ветра, от ветра, пакеты, газеты,
тревожные мысли, спокойные сны,
на сливе болтается юное лето,
несчастно влюблённое в свежесть весны.
Всё та же пластинка — навеки заело,
звонки, сигареты, последний этаж,
и это пугливое, хрупкое тело,
и тысячи мыслей, подарков и краж.
Напиться, напиться болотного фрэша,
сыграйте со мной, я держу в рукаве
шута для чудовищно глупых насмешек
и жадную память о жадной Москве.
От ветра, ответы, вопросы о пенье,
мне нравится нота — округлое "до",
и всё было до (исключение — деньги,
которые после)… Постойте, не то,
не тем, не о том! Окажите любезность,
сожгите счастливый трамвайный билет,
несчастными легче заглядывать в бездну,
где ветер, пластинки и дым сигарет.
Травинка, говорящая с горой,
оглохший от наушников послушник,
в интригу не вписавшийся герой,
пострижен, переписан и разрушен
на атомы, на воду и глаза
замёрзших рыб — как пуговицы, глупых.
Случайное движение назад -
там трупы
священных звёзд, что так и не взошли
бенгальскими огнями небосвода,
и пятаком валяется в пыли
в сто тысяч оценённая свобода.
Листок зимы, коричневый хрусталь,
вот чёрные кирзовые ботинки,
в которых по себе ходить устал
проявленный любовью невидимка.
"Нож-человек", Рамирес говорил.
Отстиранная радость наваждений,
чуть свесившись, чуть свесившись с перил,
представить своё лёгкое паденье,
разбиться на эмоции, в строку
протечь змеёй холодной серой жижи,
и знаю, что увидеть не смогу,
как умер я и как зачем-то выжил.
Не знать, не видеть, падать в синеву
июньского безоблачного неба,
пародия на ленты Джона Ву,
вокруг — мясник, бушующая небыль,
сражение за пайку и кусок
(России) боже мой, свиного сала…
Я Пью Слепой, я пью свой кислый сок
и прячу синеву под одеяло,
закрыв глаза, чернею от небес,
и рвусь, и рвусь, и вырвана с корнями
надежда, за которой шёл Кортес -
грабитель и пророк. Мертвеет пламя,
сухой экран, слеза, до рези — пыль,
и если здесь объявится Тарковский,
ему переломают костыли
и вышвырнут, и нет его, и бог с ним.
И бог с ним. Не увидеть бы себя
в одном котле с поборниками веры
в смирение. Играю короля,
отправленного свитой на галеры,
и сам смеюсь, и фильмы о войне
меж бандами смешны, летают пули,
стрекозы на жаре, и я вполне,
как церковь, разрисован и прокурен.
Ты будешь гадать мне на снах и приметах,
отыскивать нить, обрывать, заплетать,
дыхание, душное, знойное лето,
мелодия эта из мёртвых букетов,
плевать…
Границы возможного — стенокардия,
чернильное небо — по точке в зрачки,
коричнево-серою Волгой бродили
и бредили, видели, знали почти,
почти расстегнулось смущённое утро,
ты будешь гадать на симфонии чувств
и станешь носить мою старую куртку,
когда я однажды к тебе не вернусь.
Жёсткими, но лёгкими подошвами
бабочек давить на красном гравии,
дым цедить, желать всего хорошего,
белые, начитанные, арии,
злые, обречённые, судимые,
крылья под ногами, смерть считается
первой из всего необходимого,
чем живые люди утешаются.
Жёсткие, но лёгкие, проклятые,
в шрамах кожа куртки, несмирение,
пятнами бульвар, цветными пятнами,
бабочек убитых поколение.
И Маргарита говорила
"…с ума от горя и невзгод",
во сне ему шептала "милый",
а утром ела бутерброд,
духи для мужа подбирала,
в такси шутила, не ждала
ни вдохновенья, ни финала,
пила реланиум, жила.
Ему во сне шептала "знаю,
ты ждёшь, и равен году час",
ложилась спать как прежде с краю,
тушила свет, включала газ,
не для того, чтоб задохнуться,
чтоб где-нибудь огонь горел,
и проливала кофе в блюдце,
и вместе с мужем мир старел,
и проходила боль, и правда -
с ума от горя и невзгод,
день жизни чем-то был оправдан,
жила и ела бутерброд.
Вырывалось и билось, держало
в напряжении, сердце насквозь,
то ли счастья безумного жало,
то ли грусти бессильная злость.
И не верю, не жду, не ревную,
просто бесятся змеи в глазах,
ночь лежит и рассеяно курит
пережжёные травы. Роса
погасила её сигарету,
всё спокойно, лишь мечется свет
от окна до полоски рассвета,
ни позора, ни подвига нет,
Читать дальше