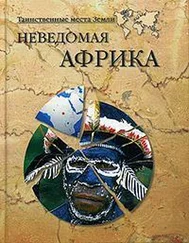«Мессия не приходит, Мессия не звонит…
Горчайший декабрь — вопили заголовки газет…»
Шалом Ханох («Ждём Мессию»)
Мессия — он приходит каждый день:
на ужин или просто так — проведать,
о бирже, о погоде нам поведать
(и распинаться бедному не лень).
Мессия к нам приходит каждый день.
Мессия курит «Тайм» и пьёт вино,
талдычит о футболе, о России
и смотрит детективное кино,
как будто он совсем и не мессия.
Мессия курит «Тайм» и пьёт вино.
Мессия в полночь покидает нас,
мы ж не спешим воcлед ему пуститься,
хотя и знаем: уходя сейчас,
он может никогда не возвратиться.
Мессия в полночь покидает нас.
Уходит прочь в жару и в холода,
и мы следим за ним, не зная сами,
зачем следим,
и видим иногда,
как взмахивает нервно он руками.
Уходит он в жару и в холода.
А ночь бела, как сажа на Руси,
и на краю судьбы и мирозданья
что ловит он —
звезду или такси,
иль то, чему и вовсе нет названья?
А ночь бела, как сажа на Руси.
Заботы забыты
в далёкой долине,
покончено с бытом —
мы в Иерусалиме.
За стенами града
жара, преисподняя,
но тень и прохлада
у Гроба Господня.
У Гроба Господня
зеваки толпятся
так, будто сегодня
вершится распятье.
У Гроба Господня
мы ищем спасенья
так, будто сегодня
грядёт Воскресенье,
так, будто сегодня
свершается чудо,
у Гроба Господня
рыдает Иуда.
Спалили всё дотла,
пьём горькую на тризне.
Любовь была?
Была,
увы, короче жизни.
Мы пьём с вареньем чай.
Нас осаждают осы.
Ты мой и труд, и май,
и рай простоволосый.
В узоре свитерка
всё сосны да осины.
И движется рука
вдоль талии осиной.
Твой утренний наряд
(раз-ряд!) меня тревожит,
и тела аромат,
и капельки на коже,
и голос с хрипотцой —
в нём слышу отголоски
симфонии ночной,
осоки шелест…
Осы
(о, порожденья сот,
о, жертвы вожделенья!)
пикируют с высот
в вишнёвое варенье.
Восторг (бон аппетит!),
мираж, оазис счастья —
и тонет индивид
в пучине сладострастья.
О, прерванный полёт,
о, угасанье звуков —
оса нектар свой пьёт
и гибнет в сладких муках.
Просил же: не руби сплеча
Просил же: не руби сплеча,
но ты — замашки басмача,
хоть грация кошачья,
а я — стенаю, плача.
Я — плач стены,
сей грозный плач
не о тебе,
моя палач!
Не смерть, не смерч — лишь дежавю:
в который раз придёт прозренье,
и я в приметах отчужденья
их смысл нехитрый уловлю.
Не боль, не бой, лишь дежавю —
не мать, а мачеха ученья;
и, не дожив до возрожденья,
до воскресенья доживу.
Тягучая песня прощанья,
высокая нота разлуки,
когда, вопреки обещанью
до гроба любить, ты разлюбишь.
И воздух, пропитанный склокой,
искрит и густеет меж нами,
и счастья былого осколки
терзают почище пираний.
В объятьях моих не проснёшься,
затем что — спиною друг к другу.
И если меня вдруг коснёшься,
отдёрнешь стремительно руку.
Не дольше века…
Кончен бал.
И — не кончается.
Объятья?
Из уст (как в устье, проникал!)
теперь — упрёки и проклятья.
Постой, любимая, о нет!
Присядь, сомкни тесней (не вежды!) —
в ногах, известно, правды нет,
но нет её, увы, и между.
А выше — даже не ищи,
и глубже — тоже не усердствуй!
Мы лишь одни хлебали щи,
мы просто жили по соседству.
Таков классический сюжет:
уходишь ты, приходит рифма.
Прощай, Офелия, о нимфа,
в реке Забвенья брода нет.
Вот жизнь твоя (уже чужая!)
отчалит поздней электричкой
и поплывёт, покатит мимо,
всё убыстряя ход.
Лицо в окне еще так близко,
но за стеклом
(не прикоснуться!)
не разобрать, что шепчут губы
уже чужие (всё ж твои!).
Ещё немного — и сольются
(о близорукость!)
очертанья
в размытый временем пейзаж.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу