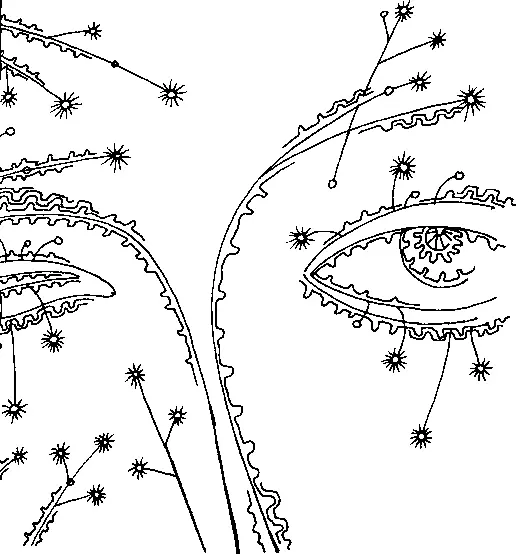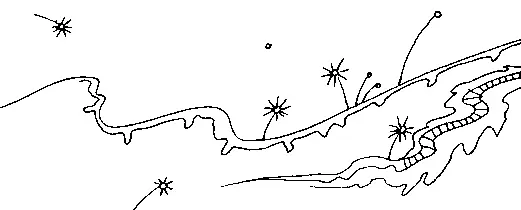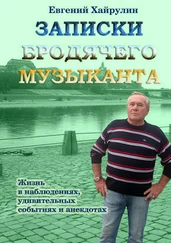Вообще же, что-то есть старокитайско-старояпонское в её пейзажноприродных зарисовках, вплоть до манеры их называть: «В январе стою посреди горного озера» или «Разглядываю узоры высоких замороженных волн».
И тем страннее вдруг натолкнуться на любовь к стихам и образу Марины Цветаевой:
Я над музыкой не плачу,
не пишу баллад и писем,
день мой прост и независим,
и душа моя легка:
только нищая удача,
значит, чистые заплаты,
непослушный конь крылатый
и Маринина рука!..
Действительно, странно: столь кроткая и смиренная героиня стихов Рубинской бережно вслушивается в Маринин голос, отвергающий мир сей, экстатически бросающий вызов всему и вся — самой своей жизни, подозреваемой в неподлинности. Всеприятие, то есть приятие своей незаметной в мире доли, с одной стороны, и горделивое бурление страстей, героическое всесуждение, с другой. Благословление мельчайших волн сути в себе и воздымание заведомо разрушительных бурь и циклонов, саморазрушение. Сколь полярные внутренние мелодии, цвета и краски, зовы и сны. Я думаю, не обходится в этом огромном внимании к «Марининой руке» без энергий сострадания к странной и гениальной женской душе, залетевшей в сбитый с фокуса мир, т. е., разумеется, всегда «внутренний мир». Такой таинственный слёт энергетизмов: Басё, Скрябин, Цветаева...
И всё же «Маринина рука», как и Скрябин — это всё же тот «городской мир», что за незримой чертой, ибо губы героини Рубинской прикасаются к другой дудочке — к флейте бесконечного смирения, из которого вырастает бесконечная воля созерцать То, что, абсолютно невообразимое, — здесь, прямо перед нами, в этот уникальный момент. Разумеется, сила нашего дыхания-вдувания весьма конечна, оттого-то конечно и наше смирение и наша воля к созерцанию. Однако здесь важно не то, что мы конечны, а глубинное понимание сути своей конечности и сути своей бесконечности, которая становится ясной, когда прикасаешься к дудочке, край которой уходит в мир, нам неведомый.
Где здесь переход? Мы мало об этом знаем, ибо подлинно знать можно лишь внутренним переживанием, которое, конечно, невыразимо и значит непередаваемо. Но мне вспоминаются слова Новалиса о том, что чем ближе человек или сотворённое им к растению, чем они божественнее. И это чувство растительного первородства ярко присутствует в этой излучающей свой особый свет и цвет книге, что перед нами. Вслушаемся хотя бы вот в эту пьесу:
С воздуха ссыпалась вся позолота,
каждой травинке хватило тепла,
кончилось лето, и осень, бесплотна,
в души растений неслышно сошла.
К нашим жилищам и судьбам со вздохом
некто добавил забытый куплет.
Осень вплотную придвинулась к стёклам,
кутая плечи в коричневый плед.
Сумерки. Ссыпалась вся позолота.
Воздух пустующий сделался густ,
плачут ворота, и жалкая нота
вяжется с ниткой рябиновых бус.
Не человеческая психика, не «внутренний мир» и «переживания» героини здесь существенны, а это почти неисследованное нами чувство нашего блаженного присутствия вблизи душ растений , нашего непостижимого отсутствия возле чего-то чрезвычайно важного в себе.
Николай БОЛДЫРЕВ
сентябрь 2004
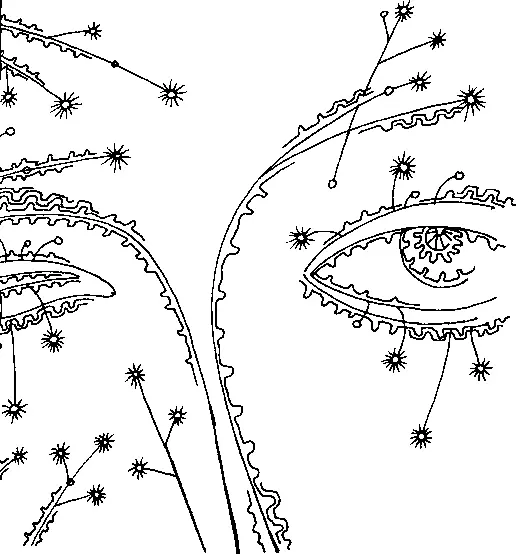
* * *
Душа моя оденется в виссон —
ступать лугами из шелков лионских,
не тронутых подковами от конских
земных копыт. Их цокот невесом —
моих лошадок, дыбящих озон
в виду воздушных площадей невзлётных,
где рай клубится , где не терпят плотных ,
где мир значительности упразднён .
То ли отраженье голубей,
красовитых, с рыкающим воркотом,
гукающих, стонущих — и вспорхнутых
в поднебесье — чем вам не сабвей? —
то ли вы, потоки лучезарные,
повторяя белокрылый лёт,
репетируете чей улёт,
ангелят рассаживая парами?..
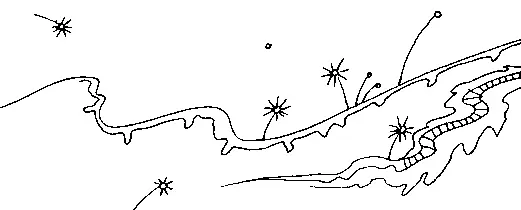
О строительстве ангара на моём берегу
Работников мелькают молотки,
и зной как бы задерживает звуки:
ударов по железу перестуки
слышны уже с подъятием руки.
Мне наблюдать инверсию смешно —
железки получаются немые,
а дядьки, по-гусачьи выгнув выи,
должно быть, матерятся; как в кино,
Читать дальше