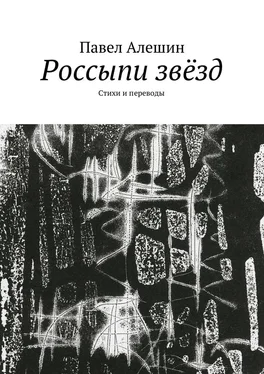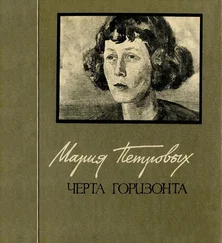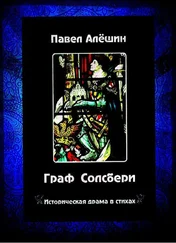Нет,
не назову её имя.
Пусть даже сердце
листвой опадёт —
осени смертной
палою нежностью.
– Мне,
мне неизвестно его имя.
Что мне до имени?
имя – не плоть.
– Нет,
не назову её имя.
Тайною только
сердце умрёт —
осени смертной
палою нежностью.
– Мне,
мне осталось его имя.
Как с этим именем
жить мне, Господь?
Печальны и величественны камни Иерусалима.
Безмолвные свидетели истории, они —
горящей памяти громада посреди неумолимой
реки времён, смывающей века, года и дни:
ведь город этот неподвластен ей. Он – ей сродни.
Его бессмертие оплачено божественною кровью.
Он взглядом неба синего, как вечностью, объят.
Хоть жизнь в нём новая кипит, но все равно камней безмолвье
напоминает о былом. Так камни говорят —
без слов, лишь формою, но тем сильней они звучат.
Окровавленный
и измученный,
Он по камню идёт – горячему.
Каждый вздох – это боль,
и не лучше ли
потушить это солнце палящее?
Но не тяжесть креста утомительна,
а печаль —
из грехов человеческих.
Но лишь кровью она —
отмоется,
и лишь сердцем бездонным —
искупится.
И в жестокой толпе,
бесчувственной,
в этих взглядах безличных,
безумных,
в этих криках —
на смерть зовущих,
этот путь – не мгновенье,
а страшное
бесконечное
одиночество,
в абсолют
возведённое
вечностью.
Бывают ночи – полные видений:
не сон, не явь – иное бытиё.
Тогда сознанье, словно остриё,
пронзает тишину любых сомнений.
Лишь ночь вокруг – и таинство её.
Луна, как лебедь в необъятном море,
сияет серебром из синей мглы.
А тучи – предсказаньем тяжелы:
томятся в них сиреневые зори —
иного мира тайные послы.
И, прозревая образы-посланья,
звездою новой сердце возлетит
туда, где вечность Богу предстоит,
где наравне и радость, и страданье
вселенной образуют монолит.
Великий Дант был полон состраданья
к влюблённым двум, и мука их сердец —
не радость ли, не счастья ли венец?
Любовь сильнее адского терзанья.
Им чёрный вихрь – как вечное проклятье:
божественный закон неумолим.
Но счастлив тот, кто – любит, кто – любим…

И смерть на разомкнула их объятья.
Не шум, но музыка меня объяла
твоих не ведающих страха волн.
И в каждой – жизнь, и даже в самой малой
мне слышен звон тритоновых валторн.
Но что ты мне поведать хочешь, море,
и в таинства какие посвятить?
Кто я в твоем многоголосом хоре?
Что музыка твоя – спасенья нить,
дарованная сердцу Ариадной,
иль красота, что может погубить
того, кто тянется к ней безоглядно?
Ответа нет. Но все же различаю
отдельные уже я голоса:
протяжный крик отчаявшихся чаек,
и вздохи нимф, смотрящих в небеса,
дельфинов смех, морской журчащий пеной
у берега крутого, а вдали…
Вдали сопрано нежное сирены.
И тянутся к ней, словно корабли,
влекомые неведомою силой
все чувства и все помыслы мои,
души моей уставшей и унылой.
На языке божественном, неясном
о чём поешь ты? Тайну мне открой!
Я не пойму… но голос твой прекрасный
сулит своим звучанием покой.
То правда или ложь? иль всё – едино?
Без одного другому не бывать.
Но есть ли между ними середина?
…Замолкли звуки, тишина опять
заполнила собою всё пространство.
Мгновенья ощущал я благодать,
но море – это мир непостоянства.
Ты выходишь из волн, освещённая радостным солнцем,
и тебя охраняет заботливый ветер.
Каждый шаг твой чарующей музыкой льётся.
и твой лик беззаботен и светел.
Ты ступаешь по берегу в лёгком струящемся платье,
на песке оставляя – как чудо – следы,
из которых, сплетаясь в любовных объятьях,
вырастают живые цветы.
Ты идёшь. Никому неизвестен твой путь. Милосердно
тихим взором спасаешь ты всех от печали.
Облака, прежде бывшие тогою серой,
белоснежной туникою стали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу