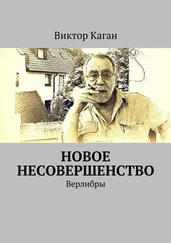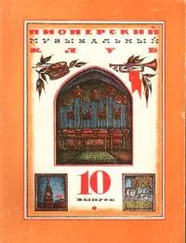У нас стальные руки —
врагу их не разжать!
И знамя наше – звуки,
труд, честь и вашу мать.
И всё бы хорошо бы,
простил бы бог грехи,
когда бы я ещё бы
не сочинял стихи.
А пока небесные глаголы
Слуха не коснутся наконец,
Ты сидишь в витрине полуголый —
В точности египетский писец.
Он сидел в витрине полуголый
и в одной руке держал стило,
а другой перебирал глаголы,
и ногой постукивал в стекло.
Музы над челом его витали
и струились рифмы по лицу.
Творческий процесс – не трали-вали,
но тихонько двигался к концу.
Вот сейчас великая поэма
наконец достанет до сердец.
Все застыли в ожиданье немо…
Только мальчик в тишине: «Писец!»
У каждого столько прекрасной одежды.
Есть брюки, рубашки, носки и трусы,
Есть галстуки цвета весенней надежды,
Изящные запонки цвета росы.
В гареме прохладно и сладостный запах,
В гареме так медленно время идёт,
И ходят рубашки на мягких лапах,
И евнух-пиджак охраняет вход.
В гарем проберёшься, лелея надежды
на лилии в капельках нежной росы,
и в рай попадёшь, где порхают одежды,
кальсоны, подтяжки, набрюшник, трусы.
Подштанники хлопнешь по розовой попке,
оттянешь футболки лихой вороток
и так возбудишься от тоненькой штопки,
что вдруг поцелуешь курносый носок.
А ноздри щекочет дурман нафталина,
Шекспир надрывается – быть иль не быть?
Невинностью манит прохлада поплина
и шёлк зазывает с платком согрешить.
И Стенька, цитируя смачно Эразма,
проблему поэтики ставит ребром,
покуда поэт, доходя до оргазма,
в шкафу копошится, ну, этим… пером.
Медленно съешь полутон оптимизма.
Сонно фиксируя краски толпы.
Вот и моя засветилась харизма
Меж новостроек, где жажда и пыль.
Что ж, удовольствуюсь просто уходом,
Ведь эротичнее вид со спины.
Медленно ешь полустон пофигизма,
не торопись – это всё же не блиц.
Видишь, моя засветилась харизма
тайною складочки меж ягодиц.
Только не думай, мол, было да сплыло,
и не надейся свалить втихаря.
Так ведь простудишься – с жару да с пылу,
не застегнувшись в метель января.
Мало ли что поломалось, протухло,
сгнило, прогоркло, невзрачно на вид,
заплесневело, прокисло, пожухло?
Это проверить ещё предстоит.
Вдруг оживёт, затрепещет, воспрянет?
Я постараюсь – дай бог крутизны!
Вдруг тебя снова как прежде приманит
мой эротичный вид со спины.
Всё реже пользуюсь местоименьем «мы».
Всё чаще пользуюсь местоименьем «я».
Всё реже пользуюсь любимой запятой
Всё чаще – многоточие в конце…
Нет больше никаких, увы, надежд,
всё реже пользуюсь любимой запятой.
Меня корит винительный падеж
и жжёт карман, как суффикс, золотой.
Мятеж мучительный души моей больной —
он пользует меня, как Айболит.
Но что же это, господи, со мной?
Душа без запятой, как зуб, болит.
Всё реже междометнейший восторг.
Всё чаще многоточье на лице.
Фата… Фиалка… Неуместен торг…
Что мне сулит история в конце
предательства прекрасной запятой?
Стою я с междометьем на лице,
рыдаю над убитой красотой.
Идут века. Харон бухает
Цепная лодка отдыхает.
В реке отсутствует зараза
(лишь от изделий №2
порой болела голова)…
Который век весь мир бухает:
глотнув на выдохе, вдыхает,
блаженно нюхает рукав,
сгибая локтевой сустав.
Харону жажда сушит глотку.
Он лодку перегнал на водку
и прёт, как к нересту плотва,
толпой изделье №2.
Лови на закусь – не халва,
но всё ж солидней рукава.
Их осталось только тридцать
Верных родине доныне,
Где хлебов почти не сеют,
Где земля рожать устала…
Журавлиный клин редеет.
Что с тобой, Россия, стало?!
Их осталось ничего-то,
а когда-то было много.
Даже думать неохота,
где окончится дорога.
Они были величавы,
травоядны и смиренны —
жалко, правда, не курчавы,
но и не обыкновенны.
Нравы наши измельчали,
души наши обмелели.
Хорошо было вначале.
Что ж мы – вовсе одурели?
Они только в зоопарке —
в лепрозории свободы.
Извели их по запарке
мы – моральные уроды.
Вот ужо придёт Мессия —
не покажется нам мало!
Родина слонов Россия,
что с тобой, Россия, стало?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу