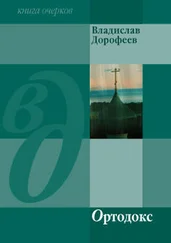Де-Мойн
Категорически спесивый город,
американский мнимый вертопрах,
все жители – как черный старый ворон,
в полете превращаются во прах.
Мораль здесь – агрессивный общий норов,
сердца сжимает, будто общий страх,
семиотические сны во взорах,
лирическая пошлость на устах.
Речь польская, нахальные «семь сорок»,
сектантские собрания позора,
прощания и встречи второпях.
Салат французский мне, конечно, дорог,
но манит звук домашнего затвора,
да запах нежной речи на крестах.
Брюль
Сейчас неловко вспоминать об этом,
дорога превращается в листву,
немецкий здесь царил порядок летом,
я осенью выгуливал семью.
Вскрывая голову чужим стилетом,
а мозг свой защищая на бегу,
берет натягивал двойным дуплетом,
простые мысли пряча на ветру.
И в рамке из рождественских предметов,
и с кроличьим хвостом в кривом носу,
отправился я в странствие по свету.
И вот я марширую по мосту,
удерживая землю на весу,
и никому не говорю об этом.
Ростов-на-Дону
На желтую опавшую листву
изломанных людей кидают твари,
библейские их рвут тела, как звери, —
солдаты Чикатило на посту.
Идут казачьи сотни на войну,
и мрут в освободительном угаре,
убитые лежат по вертикали,
внимая звезд немую глубину.
Возможно, Шолохова я прочту,
когда я памятник его найду,
в земле плешивой и седой от гари.
Дома терпимости на берегу
свои тугие закрывают двери,
когда восходит солнце на Дону.
Комсомольск-на-Амуре
Здесь пыль и снег впиваются в уретру,
когда свой оставляешь след в пути,
живых людей здесь меряют на метры,
накладывая пальцы на курки.
Кипит вода дождя в огне, как водка,
пожар в тайге параболой летит,
в пространство вбитая, плывет, как пробка,
в Амуре субмарина, будто кит.
Крутые берега в гранитной корке,
кривые линии земли, и сопки,
всё в памяти моей кровоточит.
Здесь небо звездное, как шкурка норки,
от красоты простой глаза слепит,
а в лагере больной зэка не спит.
Атланта
Войду в американский дом невольно,
и загудит от горя голова,
отмечу жест хозяина безвольный —
сдают конфедераты города.
Убийца к Линкольну ползет подпольно,
и, разбивая двери из стекла,
рука карающим мечом подствольным
в бюст превратила Авраама навсегда.
Для горожан прописаны их роли,
у каждого оплаченные доли,
рождаются здесь люди без лица.
Рабов теперь скрывает скорлупа,
а белые на вид чернее, чем земля,
все обменялись здесь сегодня болью.
Одесса
Я сяду на гранитную скамью,
подумаю про то, что очень просто
писать стихи, и снова повторю,
о чем здесь думал Пушкин низкорослый.
Взгляну на ошалевшую зарю
из номера гостиничного в «Красной»,
к Потемкинской зря лестнице стремлюсь,
ведь вспомню, Эйзенштейн был малорослый.
Не выразить на эсперанто грусть,
на украинском с грустью помолюсь,
не встретить революцию мне взрослым.
При виде женских тел теряешь суть,
на запах моря вспоминаешь грудь,
вослед мне кажется сей город пошлым.
Находка
Отягощенная теплом морей,
безудержна, как коленвал прибоя,
стремится вон, как петли из дверей,
лукава, как энергия разбоя.
Вцепившись в землю, как простой репей,
мерцая черным глянцем из забоя,
закованная цепью кораблей,
вкруг сопки собралась призывом Ноя.
Рожденные из света и теней,
здесь звезды, словно стая голубей,
парят в порту, не ведая покоя.
Дорога пахнет западом степей,
к востоку становясь всегда длинней,
себя глотая, словно с кем-то споря.
Версаль
Все короли французские оральны,
распутство их возведено в уют,
правление всегда сентиментально,
врагов на казнь уводят, как в приют.
Пастушки с гобеленов виртуальных
в обнимку с кавалерами поют,
Людовики всегда маниакальны,
спят сидя – мученической смерти ждут.
Куплю платок зеленый, пасторальный,
в подвале выберу обед буквальный,
я в заговор ввергаюсь, будто Брут.
Версальский мерзкий свальный грех моральный
монархию постельную астрально
изжил, и короли здесь не живут.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу