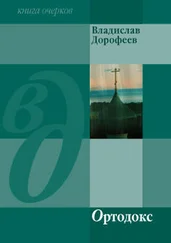Я тревожиться больше не стану,
лишь слегка мой рассудок фонит,
когда к чаше с причастием встану,
и от страха душа всхолодит.
Как художник, я мысли рисую,
и из плоти себя я леплю,
перед Богом от счастья ликую,
и людей, как себя, возлюблю.
Никому я уже непокорен,
приравняю себя я к греху,
и в осмысленном тонком позоре
жизнь продолжу земную свою.
Уходя, я себя упакую,
и по кругу долги разнесу,
и народную славу взликую,
прежде чем до скончанья уйду.
Города
Залива рыхлая вода
в реакцию вступает с подбородком,
и в памяти моей она
живописует тело переростка.
Стоят букеты черных роз
на подоконнике в стене проросшем,
и белокурый мальчик бос,
когда он смотрит из окна на взрослых.
Над морем и землей темно,
тень растворяет по дороге мысли,
и детство кончилось давно —
там на коленях в Иерусалиме.
Дома стоят здесь, как в кино,
а в воздухе витает дух расправы,
но здесь не вешали давно,
и не подмешивали в чай отравы.
День обагренный завершен,
и пахнут лилии в уме подростка,
он сам в гостиницу пришел,
на гомосексуальный перекресток.
До города здесь далеко,
гремит ключом старуха в подворотне,
зрачок ее, как колесо,
вращается бессмысленно и кротко.
Так больно было одному
читать открытые в ночи страницы,
когда я призывал луну,
чтобы глядеть на звезды сквозь ресницы.
И грудь еврейки молодой
во сне увижу, словно чью-то внешность,
под монастырскою стеной
её я обниму и стану грешным.
В ночи, как у могилы дно,
когда я утром просыпаюсь нежным,
лишь чайки грязное крыло
мелькает надо мной и побережьем.
Затем я встану на посту,
где марево ложится под кустами,
а дождь стекает по штыку,
и хлюпает страна под сапогами.
Устав, я подойду к реке,
передо мной вода расположится,
а солнце, будто боль в виске,
все поглощает зримые границы.
Так постигая города,
их вспарываю каменные вены,
им впитываю голоса,
ничтожные прощаю всем измены.
Владивосток
Торс твердой исковерканной земли,
как бы вошедший в море перст равнинный,
а в норах пушки, прячутся как вши,
врага выискивая в волнах длинных.
Страна здесь начинается в тени,
замкнув себя по линии Неглинной,
в полмира расставляя костыли,
бредет нечеловечески рутинно.
Вглубь неба лезут злые корабли,
сплетаются их голоса в круги,
когда туман над бухтой, будто тина.
Из сопок, словно рифмы для строки,
торчат деревья, как карандаши,
толпиться им не хочется в низинах.
Псков
Подрыта монастырская гора,
в ночи дыра похожа на могилу,
но из нее святые голос
стремятся к Богу сквозь сухой суглинок.
На полустанке ставка русского царя,
пером руки его судьба водила,
о чем молился мученик тогда,
когда отрекся от страны любимой?
В Изборске камень зыбкий, как вода,
и крошится от времени стена,
и также хороша внизу долина.
Свисают над границей облака,
монахи охраняют города,
трепещут лишь края их мантий длинных.
Тула/Ясная поляна
Опережает свет тень от куста,
и освещает чей-то холм могильный,
под ним лежит Толстого голова,
сто лет в улыбке щерится бессильной.
Придумать невозможно город дивный,
там звездами обсыпана земля,
красивый ангел в опереньях длинных
шагает с косогора в небеса.
Там люди выпадают, как роса,
и засыхают без любви, как глина,
под перестук стального колеса.
Как манекены в одеяньях пыльных,
умолкшие стоят потом в витринах,
их отраженные в стекле тела.
Кельн
Здесь какал Аденауэр в горшочек,
и здесь лежат три праведных волхва,
а в храм не надевают здесь платочек,
и пиво, как крещенская вода.
Здесь красота пугающе стройна,
а люди привлекательно порочны,
и время здесь, как сточная труба,
и свастика в полу – симптом подвздошный.
На Рейне карнавальная игра,
а в синагоге плачут до утра
про то, как немцы их громили ночью.
Здесь не стояли русские войска,
лишь римская империя пришла,
и утвердила свой порядок точный.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу