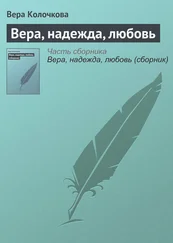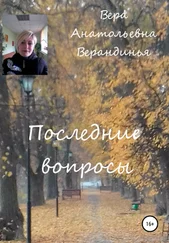Ну а тем, кто кличет меня зарвавшейся малолеткой —
Господь судья.
19 ноября 2007 года
Как на Верины именины
Испекли мы тишины.
Вот такой нижины,
Вот такой вышины.
И легла кругом пустыня
Вместо матушки-Москвы.
Вот такой белизны,
Вот такой синевы.
И над нею, как знамена,
Облака водружены.
Вот такой ширины,
Вот такой ужины.
А все верины печали
Подо льдом погребены,
Вот такой немоты,
Вот такой глубины.
«В том, что с некоторой правдой
Жить совсем не можешь ты, —
Нет ни божьей вины,
Ни твоей правоты».
22 ноября 2007 года
И когда она говорит себе, что полгода живет без драм,
Что худеет в неделю на килограмм,
Что много бегает по утрам и летает по вечерам,
И страсть как идёт незапамятным этим юбкам и свитерам,
Голос пеняет ей: «Маша, ты же мне обещала.
Квартира давно описана, ты её дочери завещала.
Они завтра приедут, а тут им ни холодка, ни пыли,
И даже ещё конфорочки не остыли.
Сядут помянуть, коньячок конфеткою заедая,
А ты смеёшься, как молодая.
Тебе же и так перед ними всегда неловко.
У тебя на носу новое зачатие, вообще-то, детсад, нулёвка.
Маша, ну хорош дурака валять
Нам еще тебя переоформлять».
Маша идёт к шкафам, вздыхая нетяжело.
Продевает руку свою
В крыло.
28 ноября 2007
Или, к примеру, стоял какой-нибудь
поздний август, и вы уже
Выпивали на каждого граммов двести, —
Костя, Оленька, Бритиш, и вы вдвоём.
Если он играл, скажем, на тринадцатом этаже —
То было слышно уже в подъезде,
Причем не его даже, а твоём.
Что-то есть в этих мальчиках с хриплыми голосами,
дрянными басами
да глянцевитыми волосами, —
Такие приходят сами, уходят сами,
В промежутке делаются твоей
Самой большой любовью за всю историю наблюдений.
Лето по миллиметру, как муравей,
Сдает границы своих владений.
А он, значит, конкистадурень,
так жизнерадостен и рисков,
Что кто ни посмотрит – сразу благоговейно.
Режет медиаторы из своих
недействительных пропусков,
И зубы всегда лиловые от портвейна.
Излученье от вас такое – любой монитор рябит.
Прохожий губу кусает, рукавчики теребит.
Молодой Ник Кейв, юный распиздяистый Санта Клаус, —
«Знать, труба позвала нас, судьба свела нас,
Как хороший диджей, бит в бит».
И поёте вы, словно дикторы внеземных теленовостей,
Которых земляне слушают, рты раззявив.
Когда осенью он исчезнет, ты станешь сквотом:
полно гостей,
Но – совсем никаких хозяев.
* * *
И пройдёт пять лет, ты войдёшь в свой зенит едва.
Голос тот же, но петь вот как-то уже не тянет.
У тебя ротвейлер и муж-нефтяник.
У него – бодрящаяся вдова.
Тебе нужно плитки под старину и всю кухню в тон.
Разговор было завязался на эту тему, но скоро замер.
«У вас есть какой-нибудь там дизайнер?»
И приедет, понятно, он.
Ну ты посидишь перед ним, покуришь, как мел, бела.
Та же харизма, хриплость и бронебойность.
Он нарисует тебе макет и предложит бонус,
Скажет: «Ну ты красавица».
Бог берёт на слабо нас.
Никаких больше игр в разбойников и разбойниц.
Ну, проводишь до лифта.
Ну, до подъезда.
Ну, до угла.
У нефтяника кухня, в общем,
так и останется, как была.
3 декабря 2007
Старый Хью жил недалеко от того утеса, на
Котором маяк – как звёздочка на плече.
И лицо его было словно ветрами тёсано.
И морщины на нём – как трещины в кирпиче.
«Позовите Хью! – говорил народ, – Пусть сыграет соло
на
Гармошке губной и песен споёт своих».
Когда Хью играл – то во рту становилось солоно,
Будто океан накрыл тебя – и притих.
На галлон было в Хью пирата, полпинты ещё – индейца,
Он был мудр и нетороплив, словно крокодил.
Хью совсем не боялся смерти, а все твердили: «И не
надейся.
От неё даже самый смелый не уходил».
У старого Хью был пёс, его звали Джим.
Его знал каждый дворник; кормила каждая продавщица.
Хью говорил ему: «Если смерть к нам и постучится —
Мы через окно от неё сбежим».
И однажды Хью сидел на крыльце, спокоен и деловит,
Набивал себе трубку (индейцы такое любят).
И пришла к нему женщина в капюшоне, вздохнула:
«Хьюберт.
У тебя ужасно усталый вид.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу