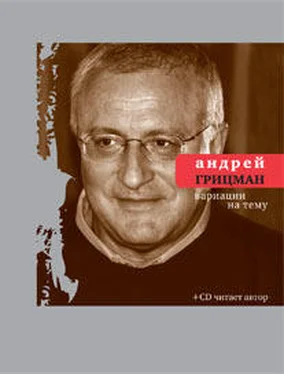Чёрный ход забит ещё с гражданки,
с тех времён последних белошвеек.
Дворники хрустели спозаранку
чёрным льдом по слюдяной Москве.
Шли они, лимитного призыва,
и крошилась винегретом речь.
Южная, тверская и с Сибири,
и темнела беспредельно ночь.
«Ароматных» дым атакой газовой
исподволь по домовым углам.
И отец, пропахший йодом, камфорой
и Вишневской мази сытным запахом,
тихо вслух Есенина читал.
Ты когда-нибудь снова входил в свою прошлую жизнь,
где твои зеркала висят по текучим стенам?
Проснись, говорит она, говорю – проснись!
Это только ночная дикая пена.
А ты, как зомби, идёшь один, говоришь с детьми,
в голове крутишь Солярис, чай пьёшь с тенями.
Проснись, живи третью жизнь – она всё твердит.
О чём говорит, когда близкие приходят за нами.
И чтоб ты ни делал, куда бы ни шёл,
заломив на седой голове незримую кепку, —
далеко не уйдёшь. Так зияет неровный шов.
Ползёт, на живую нитку любви сшитый некрепко.
Так всё узнаваемо, зримо при свете сквозного дня,
больнее и резче, чем донной бензо-диазепиновой ночью.
Как жить так можно – теряя, бросая, раня,
когда время не лечит и боль пульсирует горше?
Где-то в сознании – газгольдеры, чёрные дыры, аспид нутра,
как эпидемия гриппа мятежных двадцатых.
Кроется предназначенье на дне до утра,
Родины дальней верста в цветах полосатых.
В сотках на всех, в набухающих венах дорог,
в небе отёчном, нависшем над городом сонным,
где продолжается кем-то отмеренный срок,
но воспрещается вход посторонним.
Я постою, стороной по краю пройду
вдоль государственной, мне неизвестной границы.
Лица родных и друзей поплывут поутру
в свете Господнем, в преддверии тихого сердца.
И не понять, почему же ещё невдомёк —
так далеко на окольном пути провиденья:
город в тумане, где мы проживаем вдвоём.
Но не помогут от грусти эти картонные стены.
Я проснулся, забыл две строчки.
А потом нахлынула муть с панталыку.
Так подумаешь, а что проку, не проще ли?
Вести, хлопоты как из ведра с дыркой.
Вести, новости, день ненадёванный,
грусть невесомая лучом подсвечена.
Вот и странник тот очарованный
превращается в жида вечного.
Безъязыкого в бесконечности
слов стихии, явлений чуда.
Там, по пересечённой местности,
архетипом плывёт Иуда.
Словно душный туман от фабрики
тех мазутных годов идиллии.
И чернеют в земле сребренники,
где Иуду давно зарыли.
Мы бредём от холмика к холмику,
и не видно на расстоянии
в дымке утренней того облика.
Что-то там мерцает за облаком,
а приблизишься – медленно тает.
Холодок бежит за ворот.
Поводок плывёт по горлу.
Человек бежит за город.
Далеко не убежишь.
Ешь изюм, малину, творог.
Минералка – по утрам.
Ты же сам себе не враг!
Так подольше поживёшь.
Только не глядись в осколок:
там ограда и овраг.
Химчистка, девки, кот уставший
бредёт на цепи в городской окрестности.
Здесь, в государстве орла и решки,
я занимаюсь подпольной деятельностью.
Виртуальная жизнь, ветра от гавани
на излёте зимы к сетям астении.
Уплывает облако в дальнее плавание
и оседает на дальнем сервере.
Имперский путь за кордоном тянется,
пылит дорога навстречу Аппиевой.
Вряд ли судьба до поры изменится,
но пора уже выдавливать каплю
за каплей, что на лето и задано.
Ветер гудит в проводах разлуки.
Скрипит турникет райского сада,
чужая жена заломит руки.
А я привык. Вот, билет уже выписан.
Рожа на визе – хоть в барак транзитом.
В метели мерцают бледные лица
на отмороженном том граните.
Метёт позёмка в полях безвременья,
виза ветшает в столе одноразовая.
«На будущий год», – говорят евреи.
И последнее слово ещё не сказано.
Она, в принципе, безответна.
Обращайся к самому себе,
невольно жестикулируя,
сквернословя косноязыко.
В процессе валяния
у бетонной ограды Храма Искусств
лежи, наслаждайся
своей музыкой.
Глядишь, автобус проедет,
женщина через жизнь пройдёт.
Поезд далёкий, собеседник милый,
гудком ответит.
Где-то в белёной комнате
она пряжу свою прядёт.
Тут и там узелком неприметным метит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу